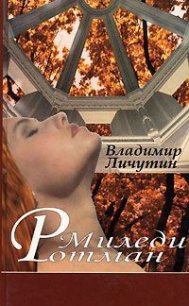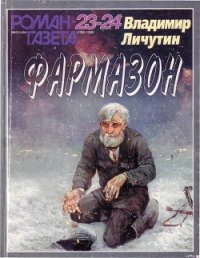Вдова Нюра - Личутин Владимир Владимирович (книги без регистрации .TXT) 📗
В углу собака доедала куропатку, сочно хрумкая и постанывая, вверху, в проеме старого купола, кряхтели и гулькали лесные дикие птицы, отходя ко сну. Свет лучины не проникал в пустоту деревянной луковки, и оттого чудилось, что крыша равномерно сбегается в одну круглую сквозную пустоту, которая уходит куда-то в тягучий мрак и засасывает в себя. И женщина вдруг ощутила свое худое угловатое тело, распростертое на жестком ложе. Ей показалось, что она распята и оголена для всеобщего посмотрения, потом неисповедимая сила подъяла примост с ее худосочной плотью и понесла. Нюре стало страшно этого полета, и она вскрикнула. Тут лучина вспыхнула прощально и, пуская горелую вонь, умерла. Старуха всмотрелась в тень до призрачных кругов в глазах, тело куда-то пропало, растворилось, осталась лишь распухшая гудящая голова с черными ускользающими провалами да вихревые белые круги, которые никак было не удержать, и тут ей померещилось, что она уже мертва, и отовсюду из зальдившихся пор земли течет в нее замораживающий могильный холод. Преодолевая слабость, Нюра напрягла разум и поняла, что ее знобит и зуб не попадает на зуб от дрожи, которая долит и бессилит плоть. Больно стукаясь локтями, Питерка достала из-под себя малицу и укрылась ею, стараясь согреться дыханием, потом голова ее безвольно откачнулась набок, и на переносье скатилась холодная слеза.
Впервые за многие годы Нюре стало по-сиротски одиноко, она вдруг поняла, как стара уже, и так захотелось помутившимся разумом, чтобы кто-то пришел сейчас и утешил, сказал на ухо несколько негромких добрых слов, от которых бы душа ее окрепла и возмутилась смерти.
Раньше охотница жила всегда сиротой посреди людей и, навещая деревню, постоянно замечала по тем посторонним настороженным взглядам, какими провожали ее, что людям не до вдовицы, у них свое незабываемое горе, свои неиссякаемые заботы, и собственным присутствием она, Нюра, как бы мешает однодеревенцам проникнуться полностью своими думами и делами; и потому, переживая за близких ее сердцу печищан, она стремилась уйти от них, чтобы собственное несчастье и сиротство каким-то боком случайно не переложить на них.
Нюра убегала от людей, чувствуя себя сиротой средь них, она скрывалась в своей зимовейке иль надолго уходила в леса, на Лебяжьи озера, где сосны вставали церковными куполами и посреди белых хрупких мхов было жарко и распаренно дышать. И там, посреди покойного дыхания бора, назойливого комариного гуда и тяжелого плесканья разморившихся сигов на расплавленной глади озера, сердце ее замирало, и плоть растекалась и растворялась посреди успокоенно дышащей природы. И все тогда было куда как тихо, благостно и хорошо. Объяснимо ли было в словах такое ее состояние, Нюра не знала и не пробовала никогда выразить его голосом, но только где-то в самой глубине души она чувствовала постоянное тепло и свет крохотной свечечки, не дающей затемниться жизни, погрузиться ей в мрак того отчаяния, которое даже людей сильных лишает твердости разума.
Уходя от людей, Нюра каждый раз согревала себя тайной надеждой, что она может в любое время вернуться к ним и они ее примут; и от того только, что она могла это исполнить, жизнь обретала иной смысл. Но сегодня Нюра впервые, пожалуй, почувствовала полную старость, свои семьдесят два года и всю полную безысходность житья. И потому она так по-сиротски и беспомощно плакала ныне, так желала увидеть подле себя живую душу, что, словно бы наяву, услышала, как скрипуче заговорили ступени крылечка, заходила под шальной ногой промерзшая дверь, кто-то пьяно матерился и икал. «Осподи, кого это несет на ночь глядя?» – спросила себя Нюра, потуже запахнулась в полушалок и вышла в сенцы.
– Кто там, на ночь глядя да в стороне от дороги? С худым умыслом иль заблудший какой? – крикнула в потемки, напрягая слух.
– Это я, слышь, Питерка, это я. Чай, не признала-те Мишку Креня?
– Ну-ну, не шуткуй… Михайло Крень, царствие ему, злодею, еще в двадцать девятом погинул, чуть опосля моего сына.
– А ты не боись, ты дверь-то отпахни да глянь…
– Чего мне бояться-то, осподи, добра не нажито, а сама из возраста вышла, чтобы чего пугаться. На доброго гостя, дак хлеб-соль, а на нечистую силу – крест да святая молитва.
И легко, с какой-то надеждой и неясным любопытством откинула Нюра щеколду. В проеме двери стоял сутулый мужик с закуржавевшей бородой и чугунными глазами на покойницком лике. «А и взаболь ты, Михайло. Ну заходи, коли с добром». Хозяйка повернулась к гостю спиной и прошла в избу, слыша за собой дурное надсадистое дыхание.
… И в горячечном темном сне Нюра Питерка заново пережила тот давний вечер и ночь, так внезапно осиротившую ее.
Еще перед смертью Парамон Петенбург уговаривал сестреницу: «Переезжай ко мне, Нюрка, две головешки рядом ярче горят. Да и сын будет под боком». И Нюра дальним умом соглашалась, что хватит себя сиротить, жить на хуторе у черта на куличках, но в ту же пору, заглядывая на подросшую племянницу Юльку, думала тайком, заранее осторожничая (береженого и бог бережет), вот девка на выданье, скоро и мужика в дом приведет, а Парамон, братушка дорогой, долго не протянет, все животом мается, помрет, дак я куда денусь, вроде бы и лишней окажусь. «Перебирайся, хватит куковать на отшибе, – настаивал брат. – Хоть сына обиходишь, приберешь к рукам, да и море рядом». – «Нет уж, Парамоша, страшновато как-то. И житье свое зорить не хочу. Легко говорится, да трудно наживается. Как строилась, думала, пуповина развяжется», – отговаривалась Нюра. «А и мы тебе не чужие, одного помеса. Отцов дом-от, – обижался Парамон, быстро воспламеняясь восприимчивым сердцем, и вдруг тоскливо добавлял, пряча выцветшие от боли глаза: – Помру, вишь, скоро. Душа моя ныне еду не примат».
Нюре было жалко брата, она понимала его одиночество, но словно бы предчувствие какое томило ее изо дня в день, и она ворчливо отказывалась: «Не-не, в своем-то доме и худое к добру, а в чужом житье и добро к худу. Не неволь, Парамонушко. У тебя своя девка на выданье, обиходит». – «Ну как знаешь, было бы предложено. У вас, у баб, и пятница-то в субботу», – последнее слово оставил за собой Парамон. И больше после того разговора не виделась Нюра с братом, лишь мертвого осенила истинным православным крестом и поцеловала в усохший ледяной лоб.
Вот как все повернулось, как повернулось… Осподи, и пожил-то, не вздохнувши ладом, покуда тотамка германьска война шла, газами травился да в плену всякое на себе испытал, а как замирились, тут вскорости и революцию сделали, да еще сколько после воевал, шашки из рук не выпускал, шашка-то от чужой крови заржавела, а жизни не видал. Порассказывал-то всего, не приведи осподь пережить человеку, ради чего мучения примают, за какой грех: такое короткое житье – с воробьиный скок, а толком и его не могут скоротать, друг дружку убивают да хвалятся, кто больше крови прольет, тот и ерой, а дома небось мати ждет, горючая слеза не просыхает, женка в молодых годах сохнет, деточки малы сиротеют без отцовского догляда. Кругом одно худо. Осподи, сколь злы и ненасытны люди, от зависти избравшие такую забаву, хуже любого злыдня и оборотня лесного. С той войны-то и люди дичают по-худому, теряют свое истинное обличье. Рассказывал было Парамон, как приятель его все с госпитальной койки на волю убегал. Украдет ли чего в палате, продаст и пропьет. А у самого рот был наглухо зашит, кожу на щеку – тоже страх божий – приживляли с лобка сначала на руку, а уж с руки на щеку. Он украдет чего, дак продаст, водку вольет через дыру в щеке: «До места дойдет», – а как напьется, сатанеет в горячке и оторвет кожу со щеки. И опять начинай все лечение по новой да сызнова…
Вот и сынок, Акимушко, через то сражение прошел и окаменел, поди: чует-нет людское страдание, когда вершит суд. Как тут распознать, где найти меру, осподи, чтобы добро на добро и зло на добро. В Евангелии же сказано: и предаст брат брата на смерть, и отец – сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их.