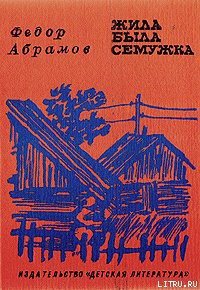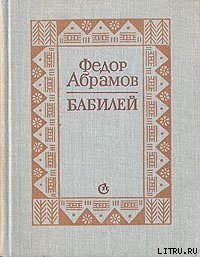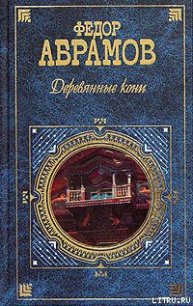Братья и сестры - Абрамов Федор Александрович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
«У Степки — двое, мы со старухой семеро наворочали, — говорил он, подвыпивши, и, загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпрысков: — Макса-косой — раз, Яшка-бурлак — два… Ефимко-солдат — четыре, Машка-глушня — пять, Матреха-невеста — шесть, Оля, отцово дитятко, — семь…»
Задумав посрамить Степку, Трофим перебрал в своей бригаде всех лошадей, но все равно — выше 0,92 га подняться не мог.
И вдруг однажды его осенила счастливая мысль. Как-то после работы, ставя в стойло свою лошадь, он обратил внимание на быка — огромного черного быка, стоявшего в крайнем стойле и лениво ворочавшего челюстями.
Бык этот, по кличке Буян, был приведен когда-то на цепях из Холмогор и немало послужил колхозу, но со временем отяжелел, его перевели на конюшню и стали использовать вместо рабочей скотины. Вначале Буян ярился, свирепел, а потом, видно, свыкся со своей долей и уже ничем больше не выдавал своего грозного характера. Железное кольцо без надобности болталось в его мясистых ноздрях.
Трофим, присматриваясь к быку, вспомнил, как зимой он встретил его в упряжке с большущим возом дров, вспомнил и даже вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли… Пораздумав, он осторожно, не без опаски, приблизился к животному и начал поглаживать его рукой, ласково приговаривая:
— Тпрусенько… тпрусенько, маленькой…
— Бык не шевелился.
Старый конюх Ефим, заметив странную возню Трофима с животным, спросил:
— Ты чего это, Троша, быка обхаживаешь?
— А что, жалко? — оправдывался Трофим, застигнутый врасплох. — Животное, оно тоже ласку любит… Может, я по бычачьей части хочу?
А дня через два — ни свет ни заря, — когда в деревне все еще спали, Трофим тайком вывел быка из конюшни и погнал на Панькины поля.
У колодца ему повстречался пекашинский раностав Митенька Малышня.
— Куда это, Михайлович, в такую рань да еще с быком? — спросил изумленный Малышня.
— Куда? Троха сегодня себя покажет! — загадочно сказал Трофим. — Видишь, силища какая! Всех лошадей запряги — не заменят!
Затем, обернувшись на ходу, крикнул:
— Скажи, чтобы новую доску заказали. На старой, на какой Степка красовался, для Трохи места мало!
Малышня постоял-постоял и решил посмотреть, что же получится из этой диковинной затеи. Легко вскарабкавшись на телегу, он с чисто детским любопытством воззрился на Панькины поля, черневшие в каком-нибудь полукилометре от конюшни.
Было Митеньке уже под семьдесят. Но природа, произведя его на свет, словно забыла о нем, да так и оставила ребенком… Маленькое, сухонькое тело его без устали порхало по земле. Его и по одежде не сразу отличишь от ребенка: штаны узенькие, с заплатами на коленях, а поверх рубашки гарусный плетеный поясок, какие в старину носили крестьянские дети. Все лето выхаживал он босиком, и ноги у него были как у ребят, — черные, все в ссадинах да цыпках.
Митенька обожал всякую живность. Летом избушка его, приткнувшаяся вместе с банями к косогору, походила на птичник. Два кривых окошечка не закрывались ни днем, ни ночью, и разная пернатая мелочь чувствовала себя там как дома, разве что не вила гнезда.
Но больше всего на свете Митенька любил детей. Лучшей няньки, чем он, не было. В страду его зазывали во все многодетные дома, да только он обычно уходил на понизовье, в другие деревни — уж больно любопытно ему было поглядеть на новых людей.
Возвращался Митенька осенью, и всегда в один и тот же день. Годами приученная ребятня с утра высыпала за деревню и встречала его с великим ликованием: весь свой скудный заработок Митенька обращал в свистульки, пряники, карандаши и тетрадки.
В этом году он остался в Пекашине и добровольно принял на себя обязанность посыльного в правлении.
Целый час, наверно, выстоял Малышня на телеге, а бык все шагал и шагал по пашне, словно он всю жизнь ходил в борозде. Малышня уж хотел было слезть с телеги, но в это время где-то по-весеннему призывно мыкнула корова. «Видно, кто еще пашет», — подумал Малышня, разыскивая глазами промычавшее животное. На задворках у Марины-стрелехи, в огороде, он увидел черно-пеструю корову, а затем и самое хозяйку. «Это она Пеструшку свою разгуливает», — догадался Малышня.
Пеструшка опять промычала, потом еще и еще раз.
И вдруг в ответ ей над деревней прокатился страшенный рев Буяна. Митенька со страхом взглянул на поле.
Черный великан, высоко взметая копытами прах земли, летел прямо на огород Марины. Трофим бежал сзади, ухватясь за плуг, что-то кричал, потом упал и поволокся по пашне.
— Караул! Спасите, родные!.. — благим матом завопил Малышня и со всех ног кинулся в деревню.
— Трофима бык порешил… Бежите к Марине…
В утренней тиши захлопали двери, ворота. Анфиса прибежала к месту происшествия, когда там уже собралась целая толпа.
— Живой, нет? — испуганно спрашивала она, проталкиваясь к середине.
— Охо-хо-хо! — ржали кругом.
Трофим, растерзанный, без шапки, весь вывалянный в земле, стоял, окруженный женщинами и ребятами. На него, брызгая слюной, наседала разгневанная Марина:
— Разоритель ты окаянный!.. По миру хотел пустить…
Трофим оборонялся руками, пятился назад:
— А я знал, что ему на старости такое взбредет? Моли бога, что огорода помешала, а то бы от твоей Пеструшки одна мокреть осталась…
Буян стоял тут же, за изгородью, сонно опустив к земле круторогую голову. Марина успела все-таки вовремя утащить свою коровенку, и бык, наскочив на изгородь, остановился как вкопанный.
— Вот как ты… — еще пуще расходилась Марина.
— Так, так его… — подзадоривали старуху.
— Ох и Лобан, учудил…
— И как он придумал, женки!..
— Это он всех обогнать хотел!..
— А бык-то… вспомнил свои годочки…
— Будет вам, бесстыдницы? — одернула Анфиса.
Но долго еще соскучившиеся по веселью бабы зубоскалили и потешались над незадачливым Трофимом.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В Поповом ручье — темень, как в осеннюю ночь. Глухой, застарелый ельник подступает к самым переходинам — двум жиденьким жердочкам.
Настя поскользнулась — холодная, ледяная вода хлынула за голенища. Выбравшись на сушу, она переобулась, отжала подол и, усталая, голодная, побрела дальше.
Ну и денек сегодня! Она как встала в три часа утра — так ни разу и не присела. Трофим из-за быка — будь он неладен — слег, а лошади что простаивать? Ну и вот: люди на обед — а она снова пахать, люди с поля — а она поля обмеривать…
Вечерело. По сторонам топорщились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в лужах. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпало, мокрый подол оплетал ноги, холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только бы добраться до дому, а там она переоденется во все сухое, на печь залезет. А еще бы лучше — в баню… Ну и что, сказать только маме — живо истопит. А может, уже топит? Вот бы хорошо! Полок горячий, каменка потрескивает, и веничком, веничком…
И едва она подумала об этом, как ноги ожили.
Где-то в стороне — или ей почудилось это — всхрапнула лошадь. Конечно, почудилось. Какая теперь лошадь — все давным-давно дома. Нет, опять всхрапнула. И плуг скрипит.
Она повернула голову, посмотрела влево. На поле кто-то пахал. Настю это так удивило, что она, не раздумывая, свернула с дороги. В пахаре она еще издали опознала Анну-куколку. Маленькую да худенькую — с кем ее спутаешь?
— Ты что, Анна? Всех перекрыть решила? — попробовала пошутить Настя, подходя к ней.
Анна приостановила лошадь, натянуто улыбнулась:
— Как же, только и думушки… Нет, Настенька, где мне… Свое, законное, отрабатываю. Нынешние порядки — сама знаешь. Пока сорок соток не осилишь, хоть ночуй на поле. Ну а пахарь-то я такой — первую весну хожу за плугом. Сегодня уж и то хотела уехать; думала, ребят хоть в баню свожу. Нельзя.
— Да ты бы Степана Андреяновича попросила.
— Что уж просить. Кто за меня пахать будет? А иной бы раз и попросила, да сердце-то у него не больно ко мне лежит…