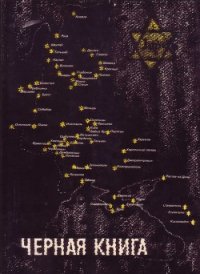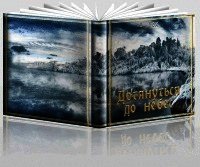Оттепель - Эренбург Илья Григорьевич (читать книги без регистрации .txt) 📗
В часы тоски он знал одно лекарство — работу. Он окончил машиностроительный институт. Его дипломная работа понравилась; хотели оставить его при институте, но кто-то за кого-то попросил, и Коротеева отправили на завод в приволжский городок. Здесь-то люди увидели удачника, человека, у которого все получается. Журавлев, недоверчиво относившийся к молодым, сразу оценил способности Коротеева. Дмитрия Сергеевича выбрали в горсовет. Часто он выступал с докладами. Рабочие охотно с ним делились своими мыслями, считали, что он человек честный и не испорченный положением.
Что же с ним приключилось? Почему он перестал управлять собой? Почему, шагая сквозь метель, угрюмо думал о Лене? Нет, не думал, только чувствовал, что она не уйдет из его жизни. Что за наваждение? Глупо все вышло, по-детски. Да и не вяжется со всей его жизнью…
Метель не унималась, снег слепил, глушил. Вдруг Коротеев остановился; никого кругом не было, а он приподнял брови и засмеялся — вспомнил свое выступление на читательской конференции.
Разве не смешно? Подымаюсь на трибуну и преспокойно доказываю, что такого вообще не бывает. Писатель придумал Зубцова, заставил его влюбиться по уши в жену товарища, осрамил перед всеми, а затем, чтобы свести концы с концами, отправил в Заполярье. Разумеется, Коротеев протестует: «Это дешевый эффект, это не типическое явление». Да, да, запомним, Дмитрий Сергеевич, мы с Зубцовым вообще не существуем, нас придумали, нас дергают за ниточки, нас нет.
Наверно, Лена теперь спрашивает себя: что же представляет собой Коротеев? Лицемер? Жалкий лгунишка? Ведь кто-кто, а она догадывается. Женщины разбираются в этом куда лучше. Я Наташе не решался сказать чуть ли не до конца, а она мне потом рассказывала: «Я еще на Соже заметила. Помнишь, бомбили, а ты обязательно хотел побриться…» Я, может быть, разбираюсь в станках, но с чувствами плохо… Конечно, Лена теперь надо мной издевается.
Впрочем, зачем я об этом думаю? Лена — жена Журавлева, у нас с нею разные дороги. С дурью можно справиться. Дело в другом. Почему я, действительно, сказал: «Такого не бывает»? Не знаю. Во всяком случае, я не хотел лгать. Мои чувства никого не касаются, это частное дело инженера Коротеева. А книга общественное явление. Зачем писать о таких вещах? Это никому не может помочь. Из неудач Зубцова с лесонасаждениями читатель сделает выводы. А чувства к чужой жене — нелепый пережиток. Любовь — цемент, все это говорят, я такая любовь разъедает. Получается, что я выступил правильно. Конечно, лучше было бы вообще не выступать, Но дело не в этом: необходимо справиться с собой.
Возле яркого круглого фонаря снег походил на стаю птиц, испуганных или возбужденных, — взлетал, падал, снова взлетал. Под фонарем, обнявшись, стояли влюбленные. «Уж не Катя ли?» — подумал Коротеев. Девушка вскрикнула, и парочка быстро зашагала вперед. Коротеев улыбнулся. Может быть, Катя. Или другая. Так и мы с Наташей ходили по парку возле Берлина; там было серое озеро, кувшинки, и вдруг на нас налетел майор… Все это хорошо в молодости. Нужно выбросить дурь из головы. Раз и навсегда.
На улице было пусто; давно все разошлись по домам — и те, кто судил агронома Зубцова, и те, кто глядел в театре «Даму-невидимку», и те, кто слушал лекцию о поднятии животноводства, и те, кто ходил в гости к друзьям. Новые дома, днем унылые, сейчас казались театральной декорацией: золотые окна боролись со снегом.
В домах живут люди, спорят, спят, мучаются, радуются. Разнос в жизни бывает… Но все это — второй план, главное — работа.
Он знал, что только работа его спасет, и, чиркая спичками на темной лестнице, радостно думал: сейчас сяду за проект Брайнина. Он разложил на столе чертежи, смету. До чего сильно топят — дышать нечем! Он открыл форточку, и в комнату ворвались снежинки. Вероятно, у меня грипп. А может быть, и это дурь. Нужно работать.
Обычно, работая, он сидел неподвижно, мог так просидеть половину ночи. Теперь он то и дело откидывался на спинку стула, переставлял лампу или пепельницу, шагал по комнате. Большая и как будто чужая тень встревоженно металась по белой стене.
Брайнин прав, многое зависит от сварки, в итоге — перекосы. Завтра поговорю с Журавлевым. Сейчас они пьют чай, и Лена ему говорит: «Коротеев выступал как чинуша». Она смеется, а Журавлев берет меня под защиту: «Романы не его дело, зато он неплохо работает, это главное». Правильно, Иван Васильевич, главное! Когда Лена смеется, глаза у нее темнеют; иногда смеется, а глаза печальные. Вздор! Нужно сказать Журавлеву про редукторы…
В пять часов утра он с удовлетворением сказал себе: можно с поправками рекомендовать проект Брайнина… Спать не стоит — скоро на завод. Но не спать трудно: снова полезет в голову дурь. Может быть, изложить в виде записки все поправки к проекту Брайнина? Легче будет убедить Журавлева. Да и час уйдет…
Все метет и метет. Но темные улицы оживились — люди торопятся на работу. Тот же яркий фонарь, те же белые птицы, только влюбленных нет.
— Фильм какой замечательный! Я всю ночь не спала…
— Да ты скажи Егорову, он тебя отпустит, а бюллетениться глупо…
— Навагу выбросили, народу — не пробиться…
А Коротеев думает: до чего крепкая дурь! Не проходит. Может быть, вообще не пройдет, не знаю. Я об этом читал, оказывается, нужно пережить. Неожиданно он улыбается. — Это очень глупо, но, кажется, я счастлив…
2
Вернувшись с читательской конференции, Лена накрыла на стол, принесла из кухни чайник, холодные котлеты, что-то при этом говорила. Журавлев, однако, заметил, что она сама не своя. Спроси он, что с нею, она, наверно, растерялась бы, но он ей подсказал: «Опять двоек понаставила и расстраиваешься?» Она с облегчением ответила: «Да».
Иван Васильевич взял газету — утром он не успел прочитать; он ел и читал, иногда взглядывая на жену, говорил: «Никифорова здорово отхлестали», «Что компрессоров не хватает, это бесспорно». Лена поспешно соглашалась.
Хорошо, что он читает: она может подумать. Ведь только сейчас она поняла, что случилось непоправимое. Ужасно переживать такое одной!..
В студенческие годы у Лены было много подруг, а на заводе она порой тосковала: не с кем поговорить. Ее тянуло теперь к людям, обладавшим жизненным опытом, и она сама над собой подтрунивала: учительница, а все еще хочу, чтобы кто-нибудь меня научил! До прошлого года в школе работал один из самых примечательных людей города — Андрей Иванович Пухов. К нему все относились с почтением: старый большевик, участник гражданской войны, талантливый педагог. А Лена считала его своим спасителем. Ведь она вначале растерялась, дети шалили во время уроков, не слушали ее, она по ночам плакала. Андрей Иванович помог ей войти в работу, раскрыл самое главное: ученик — это как взрослый, один не похож на другого, нужно понять, заслужить доверие. Он разговаривал с ней как с родной дочерью. Она дня не могла прожить, не услышав несколько слов от Андрея Ивановича. Но прошлой зимой Пухов тяжело заболел, врачи сказали — грудная жаба, запретили работать. Правда, теперь Андрей Иванович лучше себя чувствует, иногда он заходит в школу — тянет его туда, — но Лена не решается его беспокоить своими сомнениями, бранит себя: пора жить своим умом, ей ведь скоро тридцать, не девочка… А все-таки трудно, когда не с кем посоветоваться.
Иногда Лена забегает к врачу Вере Григорьевне Шерер. Познакомились они год назад. Лена не забудет того вечера: тогда она впервые поняла, что муж для нее чужой. Это было так страшно, что она всю ночь проплакала. Вера Григорьевна нравится Лене, но встречаются они редко — Шерер всегда занята. Потом она какая-то замкнутая. Может быть, потому, что одинокая? Она сказала Лене: «Второй раз ничего не получается»; она на войне потеряла мужа. Лене неловко надоедать Вере Григорьевне: у нее свое горе.
С Коротеевым Лена как-то сразу подружилась. Он много рассказывал про войну, про Германию, про товарищей, люди в его рассказах оживали, и Лене казалось, что она их хорошо знает. Они спорили о книгах. Лена говорила, что почему-то не верит в счастье Воропаева, а Коротеев доказывал, что это правда. Ему нравился Листопад, а ей он казался бездушным. Про роман Гроссмана Коротеев сказал: «Войну он показал честно, так действительно было. Но герои у него слишком много рассуждают, больше, чем на самом деле, от этого им иногда не веришь». Лена возразила: «А разве вы мало рассуждаете?» Он сконфузился, пробормотал: «Нельзя переносить на собеседника… А я вам, видно, надоел разговорами…»