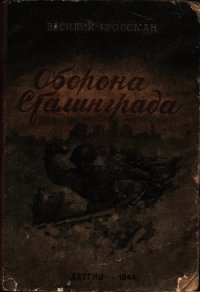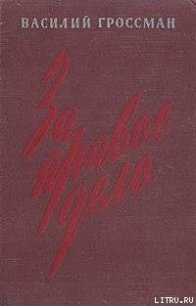Рассказы о русском характере - Гроссман Василий Семенович (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .txt, .fb2) 📗
…Теплая всасывающая струя воздуха опустилась на него. Ему было крайне приятно смотреть на детей, видеть их изменившиеся лица, как бы поглощающие знание, однако под этой теплой струей, льющейся на него откуда-то сверху, он словно осел, стал меньше, углубился во что-то безрассудное… он закрыл глаза и заснул.
Когда он открыл глаза, он даже и не подумал, что спал. Просто сквозь разбитую раму дунул теплый ветер, и сержант на одно мгновение прикрыл веки. Странно только, что ноют локти и затекла кисть руки, к которой, должно быть, он прижал голову, да и ногу свело…
Он строго посмотрел на ребят.
Лица их были по-прежнему внимательны и даже, пожалуй, еще более внимательные, чем в начале урока.
— Будем продолжать урок, — сказал он и, перед тем как продолжать, взглянул на часы. Удивительное дело! Часы показывали без десяти десять, Что, он забыл их завести? Но тогда бы они остановились! Он приложил их к уху. Часы шли исправно, как всегда. Он взглянул опять в лица ребят. — Я, кажется, задремал, ребята?
— Нет-нет, — ответили ребята в голос.
Голова его теперь была ясна. Речь текла плавно. И он испытывал редчайшее удовольствие от урока. Оказалось, что он любит то и другое! И войну за Отечество, и рассказы ребятам о том, чем жило и чем живет его Отечество. Оказалось, что сердце сержанта Животенкова обширно и может вместить многое — много любви!
Хрестоматии «Русская литература» он, разумеется, не имел, не имели ее и ребята, поэтому вполне извинительно, что он не так уж точно цитировал подлинник и перевод. Точность он заменил пылом, и ребята вполне удовлетворились этим. После того, как он закончил урок, он проверил их. Они отлично усвоили пройденное и спросили, когда он назначит следующий урок.
— Скажу по секрету, в ближайшие часы выступаем дальше, на запад, — проговорил сержант, — так что урока от меня вскорости не предвидится. Но мы заложили фундамент, и, будьте уверены, он не распадется. Сколько дней прошло с того момента, как вошла в село Советская власть? Пять. А уж был один урок! Так поверьте, что через несколько дней к вам приедут и настоящий учитель, и книги, и тетради. До свидания, ребята!
И все же он возвращался к своему орудию в недоумении. Спал он или не спал? И если спал, то сколько? Неужели же школьники так страстно хотели учиться, что сидели и ждали урока, неподвижные, два долгих, утомительных часа? Два часа не шелохнувшись. Уж что-что, а детскую психологию он знал. Во время войны, да весной, да при выбитых рамах. Невозможно!
Он вошел под навес. Орудие было в исправности. Часовой у орудия подтвердил это.
— Сколько ж они работали? — опросил сержант.
— А часа два с лишком, может, и три, докончили, одним словом, да и пошли спать, товарищ сержант. Солнце-то ведь высоко, а как опустится, пойдем, сказывают, дальше.
Сержант взглянул туда, куда он не догадался взглянуть, — на солнце.
Огромное, сверкающее, резкое, оно стояло действительно высоко в бездонном, казалось, всепоглощающем небе. Оттуда оно как бы говорило человеку: ну разве не прекрасна жизнь, разве не прекрасна весна и разве не поразительно прекрасна борьба за все это: за солнце, за себя, за меня, за жизнь!
И тут только сержант Животенков понял, почему ребята не ушли из класса, когда он спал. Они знали, где и как он провел эти три дня и три ночи, и, охраняя его сон, продолжавшийся два с лишним часа, они тем самым охраняли и уважали и свое будущее, и свое настоящее, и свое прошлое.
— Одобряю! — сказал сержант Животенков и улыбнулся улыбкой, едва ли не самой широкой за всю его жизнь.
Константин Михайлович Симонов
Восьмое ранение
Восьмое ранение он получил в песках под Моздоком. Был очень холодный ноябрьский день. Еще ночью задул сильный ветер с Каспийского моря и продолжался весь день, не переставая, сметая с песчаных горбов снег, засыпая колючей порошей пушки, забиваясь под воротники шинелей.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})Был день как день — обычный, один из тех, к которым за полтора года войны Корниенко уже привык и не находил в них ничего особенного. С утра было тихо, к полудню немецкие артиллеристы начали ловить его батарею, но не поймали. Потом стоявший слева полк атаковали несколько вражеских танков. Корниенко открыл огонь и поджег танк, остальные ушли. Потом, часов до пяти вечера, опять стало тихо.
Ветер был такой промозглый, что даже во время боя, работая у орудий, люди кутались в свои синие выцветшие башлыки, плотно обвязывая их вокруг воротников шинелей. Только сам Корниенко поднял уши у шапки и опустил воротник, а башлык заправил за ремень Ему было так же холодно, как и всем, но так поступать у него была своя причина: пять дней назад его контузило, он плохо слышал, и ему все казалось, что это оттого, что мешают шапка и башлык. Однако лучше слышать он не стал, и когда в пять часов вечера на батарею налетели бомбардировщики, он, стоя в отдалении от своих казаков, не услышал гула, перешедшего в свист, и бросился на землю только в ту секунду, когда где-то совсем рядом раздался взрыв.
Восьмое ранение было в живот. Он почувствовал боль и, превозмогая ее, попробовал сесть. Но руки скользили по снегу, и сесть ему долго не удавалось. Наконец, застонав, он все-таки сел и, опершись руками о землю, попробовал встать И раньше, когда он бывал ранен, ему казалось, что главное — встать, оторваться от земли, тогда он превозможет боль и останется жив. Но сейчас он не мог приподняться. К нему подбежали несколько казаков, и пока двое укладывали его на носилки, остальные молча стояли вокруг. Он не мог видеть своей раны, но, встретившись взглядом с их глазами, понял, что, наверное, вид ее был ужасен. Он почувствовал: перед тем, как его унесут, он должен что-то сказать своим батарейцам, они ждут этого. Но сказать ему хотелось только одно — что напрасно они на него сморят как на покойника, что он не умрет.
— Достаньте, в правом кармане смертельник лежит, — сказал он шепотом.
Санитар расстегнул у него карман гимнастерки и достал оттуда черную круглую коробочку, похожую на те, в которые хозяйки кладут иголки.
— Открой, — сказал Корниенко, когда санитар достал смертельник.
Санитар открыл: коробочка была пуста. Тогда, обращаясь к казакам, уже совсем тихо, так, что даже не все расслышали, Корниенко сказал:
— С финской войны еще вожу и ничего не кладу, потому что все равно меня не убьют.
Он сказал это с ожесточением: ему было обидно, что батарейцы так легко могли поверить в возможность его смерти.
Носилки подняли, и он сразу потерял сознание.
В первый раз он очнулся, когда в полевом госпитале его стали готовить к операции. Он открыл глаза, увидел над собой знакомое лицо врача, у которого он один раз уже оперировался, и попросил, чтобы ему дали стопку водки. Врач не удивился этой просьбе: она была достаточно частой, и сам врач считал, что перед обработкой раненого водка иногда не вредит. Но Корниенко он отказал:
— На этот раз нельзя. У вас рана в животе.
— Ну, не надо, — покорно ответил Корниенко и снова потерял сознание от боли, как только ему начали промывать рану.
Без сознания он был почти две недели. Иногда сквозь полусон он чувствовал, что его куда-то везут на машине, один раз почувствовал раскачивание поезда, потом опять наступила темнота, и в голове его проносились какие-то дикие, странные образы, обрывки воспоминаний — все, что потом он, как ни старался, так и не мог вспомнить. Сознание окончательно вернулось к нему только в большой прохладной комнате с высоким белым потолком и двумя длинными рядами кроватей.
— Сестрица, — сказал он и удивился, что сестра не слышит. — Сестрица! — крикнул он.
Тогда сестра медленно повернулась, словно до нее долетел едва слышный шепот.
— Что за город? — спросил Корниенко.
— Ереван, — сказала сестра.
В окне виднелись крыши соседних домов, все в желтых пятнах южного солнца. На стене против койки висели большие часы с маятником. Корниенко показалось, что они стоят, потому что они не гикали, но потом он увидел, как качается маятник, и понял, что просто еще плохо слышит после контузии. Он со злобой вспомнил об этой контузии, из-за которой он к тому же был еще а ранен, и, чтобы отвлечься от дурных мыслей, решил поговорить с сестрой. Долго не мог он решить, с чего начать, потому что был неразговорчив вообще, а с женщинами в особенности. Наконец он спросил: