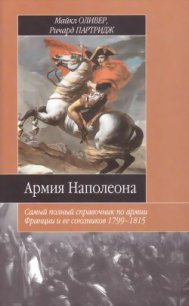Северное сияние - Марич Мария (читать книги без сокращений .TXT) 📗
— Если бы вы видели этих боярынь-кукониц! — прерывая свой рассказ, воскликнул Пушкин. — Они разряжены в аляповатые венские моды, нарумянены, набелены, глаза подведены. И при этом на плечах неизменная турецкая шаль, а на ногах папучи — эдакие смешные сапожки. Одна бояресса, усевшись на диван, незаметно сняла свои папучи. А я их спрятал…
Дамы расхохотались.
В комнату, грузно ступая, лениво вошел Александр Львович.
— Вот опоздал, — встретила его Екатерина Николаевна. — Александр Сергеевич здесь по твоей части интересное насчет бессарабских кушаний рассказывал.
— Он и то обещал мне мамалыгу собственноручно приготовить, — ответил Александр Львович.
— Друзья мои, все эти восточные яства надоедают так же быстро, как пряная любовь восточных женщин, — сказал Пушкин. — Твоих же обедов, Александр Львович, не превзойти никому во всем свете. А молдавского вина, разведенного водой, после твоего лафита и кло-де-вужо никто из вас даже и не пригубил бы.
— Нет, эту самую мамалыгу у них славно подают. — Александр Львович прищурился и стал поразительно похож на Потемкина. — Да, да, — повторил он, — умеют. А тебя мы так скоро не отпустим. Я, maman, хочу написать к Инзову, чтобы он не подумал, будто Пушкин сбежал куда-нибудь.
— Прекрасно придумал, — одобрила Екатерина Николаевна. — Там у меня найдешь бумагу, а перьев вели из кабинета подать.
Александр Львович подошел к палисандровому бюро и шумно отодвинул тяжелое кресло.
Маша потянула ручку звонка, висевшую на широкой малиновой ленте. Явился Степан. Александр Львович молча сделал рукой несколько движений, выражающих намерение писать.
Степан подал большой лист синеватой с дворянской короной бумаги и несколько хорошо очинённых гусиных перьев. Александр Львович так же молча указал ему на незажженные свечи.
— От меня генералу поклон напиши, — велела сыну Екатерина Николаевна.
Пока Александр Львович писал, Пушкин вполголоса убеждал Елену не уничтожать ее переводов из Вальтера Скотта и Байрона, называя их превосходными.
Елена, краснея, упрекала его за то, что он подбирал эти разорванные ею переводы.
— Но, мадемуазель Элей, — оправдывался Пушкин, — поймите же, что страстность моей натуры проявляется и в любви к английской поэзии… Разве вы не заметили этого, когда в бытность мою у вас в Гурзуфе вы обучали меня английскому языку по «Чайльд Гарольду»?
— Помнишь, как в день твоего рождения Александр Сергеич прочел наизусть «From Anacreon» note 11 Байрона и ты так хвалила его произношение? — спросила сестру Маша.
При упоминании о Гурзуфе лицо Пушкина, за минуту перед этим дышащее неудержимым оживлением, вдруг затуманилось.
— Гурзуф! — горячо вырвалось у него. — Прелестный край! Любимая моя надежда — опять увидеть его полуденный берег… Проснуться ночью и слушать шум моря… Заслушиваться им целые часы… А утром выйти на балкон и заглядеться пленительной картиной: разноцветные горы сияют, плоские кровли татарских хижин кажутся издали ульями, прилепленными к горам… Тополи, как зеленые колонны, стройно возвышаются между ними… Слева — Аюдаг. В тумане — Чатырдаг. Кругом синее чистое небо и светлое море, и блеск, и воздух полуденный… Сбежать вниз и, как друга, обнять мой кипарис…
«Кто может находить его некрасивым?» — думала Маша, заглядевшись на Пушкина.
— А знаете, Александр Сергеевич, — прервала она наступившую тишину, — когда Катиш с Мишелем были в Гурзуфе, тамошние татары уверяли их, что на кипарис, под которым вы так любили сидеть, постоянно прилетает соловей и поет… поет…
Пушкин глубоко вздохнул.
— Пернатый гость моего кипариса счастливей меня… Простить себе не могу, зачем я наслаждался гурзуфской природой с беспечностью неаполитанского lazzaroni note 12. Не для того ли, чтоб мой жадный взор ныне вновь стремился увидеть таврические волны и чтоб чувство, столь мучительное в своей неудовлетворенности… — он вдруг замолчал и остановил на Маше долгий взгляд.
Она смутилась.
Снова наступила тишина, нарушаемая скрипом гусиного пера в руке Александра Львовича.
Вошел Степан с горящей свечой и зажег стоящий на бюро канделябр. Александр Львович продолжал писать, уткнув двойной подбородок в ослепительно белое жабо.
— От тебя что передать? — неожиданно обернулся он к Пушкину.
Тот вскочил с места так быстро, что длинные полы серого его сюртука взметнулись над малиновым пуфом,
— Напиши к нему, что:
и еще что:
— Браво! Браво! — захлопали дамы.
Александр Львович залился хохотом, тряся складками жирного подбородка.
Отдышавшись и поохав от смеха, он посыпал письмо из серебряной песочницы и посушил над свечой.
— А теперь послушайте и мой экспромт, — предложил он, сдувая с письма крупицы песку: — «Милостивый государь мой, Иван Никитич! По позволению Вашего Превосходительства Александр Сергеевич Пушкин доселе гостит у нас, а с генералом Орловым намерен был возвратиться в Кишинев. Но, простудившись очень сильно, он не в состоянии предпринять обратный путь. О чем долгом своим поставляю уведомить Ваше Превосходительство и при том уверить, что коль скоро Александр Сергеевич получит облегчение в своей болезни, тотчас же не замедлит отправиться в Кишинев».
— Очень хорошо написал, — похвалила Екатерина Николаевна. — Святки Александр Сергеевич у нас погостит, на крещенье все в Киев съездим, а там видно будет… Так как же, Машенька, — обратилась она к внучке, — так и не споешь нынче?
— Спою непременно, только в гостиной, под новые клавикорды.
— А кишиневские певицы аккомпанируют себе на кобзахи тростянках, — сказал Пушкин. — Эти инструменты настоящие цевницы. — Он вполголоса пропел отрывок дикого и страстного молдаванского напева, закончив его словами: «Ар-дема… фридема…»
— Это напоминает цыганскую песню, которую вы нам однажды спели, — вспомнила Маша. — Там еще были слова: "Режь меня, жги меня». Помнишь, Элен?
Но Елена не слышала этого вопроса. Стоя у окна, она неотрывно глядела на поданный к крыльцу небольшой экипаж. Возле экипажа человек в высоких ботфортах, согнувшись, что-то исправлял у заднего колеса. Рядом стоял Василий Львович в накинутой на плечи шинели и без шапки. Он с кем-то оживленно разговаривал, но с кем, Елене не было видно из-за навеса над крыльцом.
Наконец, возившийся у экипажа человек выпрямился, потрогал молотком железный обод колеса и обернулся. Елена узнала в нем механика Шервуда, уже несколько месяцев жившего в Каменке.
Василий Львович протянул руку и свел с крыльца невысокого коренастого полковника.
«Так и есть — Пестель!» — узнала его Елена и невольно прижала руку к забившемуся сердцу.
Незаметно для других она протерла концом голубого шарфика запотевшее от ее дыхания стекло.
Ей показалось, что, вскочив в экипаж, Пестель поднял глаза к окну, у которого она стояла, и, чуть-чуть улыбнувшись, прикоснулся к козырьку своей фуражки.
Вспыхнув до корней волос, Элен медленно наклонила голову.
10. У гувернантки
Накануне отъезда в Петербург, не найдя племянниц в гостиной, где обычно перед ужином собиралась молодежь, Василий Львович решил, что все они у мадам Жозефины, старой гувернантки, живущей в Каменке на покое.
Проходя по знакомым с детства комнатам, слабым полуосвещенным светом редких канделябров, Василий Львович видел в зеркалах свое отражение и тусклый блеск эполет.
Note11
«Из Анакреона» (англ.).
Note12
Бездельник (итал.).