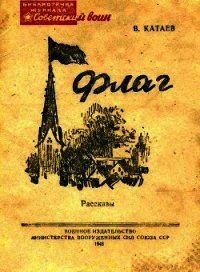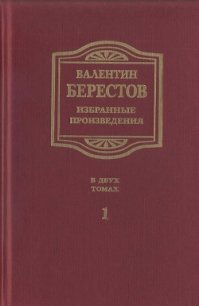Коридоры смерти. Рассказы - Ерашов Валентин Петрович (онлайн книга без .txt) 📗
Сын…
Вот и неделя миновала. В прошлое воскресенье Трофимов на службу вообще не пошел, хотя уже завелось обыкновение работать и по выходным, его не стали вызывать: по городку вести распространяются мигом. И дед не приставал с разговорами, подался к соседям убивать времечко, оставил Трофимова одного, принеся перед тем по собственному почину водки, луковицу и краюху. А подумав, еще и огурцов две штуки. Огурцы были засолены на тяп-ляп, водка отдавала сивухой, но Трофимов не замечал этого, прихлебывал мелкими глотками, как чай, и хмель не мутил вовсе.
Так было и три с половиною года назад.
Тогда, в апреле тридцать восьмого, Николай Григорьевич овдовел — негаданно и страшно.
Прасковья Сергеевна его, больная сердцем, грузная, однако ровная повадкой и веселая, сказала после обеда: «Притомилась что-то, полежу я полчасика, ладно, Коля?» Она всегда оправдывалась, ежели отдыхала днем: без малого сорок лет провела в учительской и домашней суетне, в заботах и хлопотах о нем, Трофимове, и о Гешке… Сына взяли они в детском доме, сразу перебрались из одного района в другой. Тряслись над ним, как над подаренным богом золотым яичком… «Ты иди, ты иди, Коленька, на работу, — сказала жена, — я ничего, я так просто, придремну полчасика да за тетрадки, только занавеску мне задерни, больно уж солнышко в глаза». Трофимов повернулся к окну и тотчас услыхал непонятный всхлип, похожий как если бы целиком заглотнули скользкий соленый грибок. Ничего вроде тревожного не заключалось в том звуке, но был он и непонятен, и неуместен как-то, и Трофимов отнял руку от задергушки, глянул назад. Паша лежала откинувшись, глаза ее оставались полуоткрытыми…
…Вскоре после похорон Трофимов продал домишко — хороший был дом, уютный, — продал не ради выгоды, а потому, что жить здесь без Паши оказалось невмоготу. Жениться он зарекся, а Гешку приучил помогать по хозяйству — и пол вымыть, и сготовить, и постирать даже, — и тогда сняли горницу в избе старика Захара Филипповича, тоже недавнего вдовца, стали существовать по-мужски безалаберно и отчасти беззаботно. Когда затупилось горе, даже с веселием неким жили, на равных началах и правах. А соседки определили в Николае Григорьевиче завидного жениха: и характером, слышь, легок, и не стар еще, и при деньгах, и должность хорошая — участковый агроном райзо, и сын такой, что любой мачехе не в обузу. Но, как ни сватали, сколько ни подъезжали, Трофимов не поддавался, решил скоротать век в одиночку, понянчить внуков, если сам раньше того не помрет, и, наверно, понянчил бы, не случись окаянная эта война…
Дед Захар вернулся, молча лег, повозился на полатях, спросил огоньку; Трофимов наугад, в тень кинул коробок, а разговор так и не поддержал.
…Геннадий заявился с выпускного вечера, когда уже высоко стояло июньское полное солнце. Был нарядный он: в белой рубахе с широким отложным воротом — их почему-то, слыхал Трофимов, байронками называли, а то апаш, — в белых, из парусины туфлях, с вечера помазанных зубным порошком, а сейчас обзелененных. Был Геша еще по-мальчишески тонкошеий, но с крепкими плечами — плечи мужские. Трофимов не ложился, встретил у порога — так в это утро сынов и дочерей своих встречали тысячи, сотни тысяч отцов и матерей. Стесняясь поцеловать, сын потерся об отцовскую, за ночь защетинившуюся щеку, и, конечно, в тот миг Трофимов-старший явственно увидел Пашу… Пока он сына ждал, все время думал о ней, покойнице, как бы радовалась, и представлял, что бы сделала она сейчас по случаю окончания сыном десятилетки, и, представив, Геше велел прилечь и вздремнуть; тот мигом уснул — не в кровати, а на устеленном дерюжкою полу.
Тем временем отец сходил на воскресный базар за покупками, принес молодой редиски, зеленого луку, выпросил даже без очереди привозных огурчиков, накрошил, полил постным маслом и уксусом, поперчил. А еще нарезал на сковородку сала, чтобы, как проснется Гешка, мигом соорудить большую яичницу и пригласить на праздник деда — тот уже похаживал вокруг да около, предвкушая… Трофимов мельтешился на хозяйской половине у загодя растопленной печи, поглядывал в растворенную дверь и радовался, какой статный, красивый у него вымахал сын, и представлял себе внуков, беспомощных, теплых, — никогда младенца голенького в руках не держал. И мыслил, как он внуков станет цацкать, а после, подрастут когда, вырезать им из липы свистульки, ладить каталки, водить в поле, на луга, на скудную речку порыбалить. И Трофимову казалось, что жизнь его станет долгой, осмысленной и радостной вдвойне, потому что с этого дня сын взрослый и делается вроде бы не только сыном, а еще и равным, товарищем.
Давно сговорено было, что Геша поедет поступать в Казань, в сельскохозяйственный, он уважал отцову профессию и отчасти понимал уже землю. Трофимов и радовался этому, и страшился одиночества. Но в конце концов до Казани пароходом — полсуток, а к зиме сулили наладить самолетные рейсы, тогда будет еще проще…
Геннадий молча, как не спавши, свежий, невстрепанный, вскочил и первым делом крутанул патефон; тот заверещал разухабисто:
И Гешка тотчас подхватил:
«Радио бы лучше включил, чем эту шарманку свою, — хмуровато сказал отец. — Последние известия послушаем, чего там где творится».
Скворчала тем временем яичница-верещага, свежо и забыто пахли огурцы, накрошенные в тарелку, и дед облизывался при виде поставленной, с погребка, потной бутылки. Хорошо, счастливо было им троим, как и многим миллионам людей России в тот июньский выходной денек…
В райвоенкомат пошли вместе, и там, сколько ни просил Трофимов, сколько ни грозился даже обратиться к самому товарищу Сталину, отказали: стар, дескать, а вот Гешку, двадцать третьего года рождения, отправили на комиссию. Николай Григорьевич с другими родителями дожидался во дворе, курил одну за одной. Он ждал, понимая, что Геннадию не откажут; и было неправедное, ужасное в том, что пойдет не он, старик Трофимов, повидавший всякого и отживший свое, не он пойдет воевать, а сынок — молодой, красивый, не успевший еще изведать ни работы, ни любви, ни сладкой тягости человеческого существования…
Вечером, собрав сынку мешок-«сидор» и выпив дополнительно для настойчивости, Николай Григорьевич сходил на квартиру к военкому, будучи с ним на короткой ноге, как и с прочими районными работниками. Военком на уговоры мобилизовать и Трофимова, старика, не поддался, поскольку не было на то его власти. Вот сын и ушел, а он, старик Трофимов, остался, казня себя за то, в чем не был виноват…
На часах слабо фосфоресцировали стрелки; Трофимов разглядел: половина одиннадцатого. Собирался уснуть, но сон размыло, а завтра — подыматься ни свет ни заря, телепаться в дальний Шуран. И дорогу раскиселило дождем. И поспать бы… Да не удавалось никак.
Трофимов насильно встал, обулся, накинул — от влаги — шубняк. С порога сквозило, махорочная вонь в избе сделалась реже: дед угомонился и не дымил.
Карманным фонариком — Гешка подарил, Гешка! — Трофимов осветил крыльцо, заляпанное грязно-ржавыми листьями. На дворе вдруг развиднелось; можно было различить, как неподалеку покорно вздрагивает оголенный клен. Серую траву пятнали черные лужи в белых всплесках. Дождь лупил по газете, распластанной у ступенек. Пахло глиною, увлажненными прутьями плетня, конскими катышками, рогожей, сыромятиной, кошками; и все это сливалось в родной, привычный дух. Земля уже давно не принимала влагу, но так и не предвиделось конца настырному осеннему дождю. Ветер подвывал в стрехах, кидался горстями влаги; что-то постукивало у сарая, где, загодя приведенный с райисполкомовской конюшни, чтобы пораньше отправиться в путь, коротал ночь меринок Резвун.