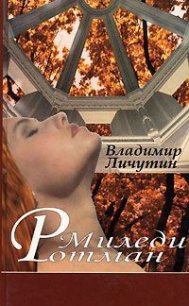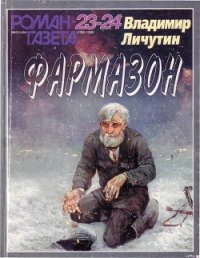Вдова Нюра - Личутин Владимир Владимирович (книги без регистрации .TXT) 📗
Нюра навязчиво, до туманного кружения в голове вглядывалась в верхние стеколки, где часто показывались детские головенки, и по цвету волос, по неясному пятну лица угадывала, который ее там сын. Ей все мерещилось, что Акимка еще ребенок и посещает школу, чтобы набраться грамоте, а сейчас он вымчит на улицу, к своей мамке, уткнется головенкой в подол, а Нюра будет гладить его непослушный вихор на затылке и томиться от радости. «Пойдем», – скажет она сыну, и, встав на лыжи, они быстро закатятся в просторный, ровно гудящий лес и растворятся в нем.
Нюра так явственно представляла все, что, когда приходила золовка Калиства, чтобы увести горемычную домой, и трогала за рукав, Питерка пугливо вздрагивала и нехотя пробуждалась от сна, покорно шла следом, но еще долго крутила головой, высматривала сына. А однажды, где-то в середине сентября тридцать второго года, деревню разбудил пожар: горел интернат. Дети прыгали со второго этажа в уличную грязь, учитель Ланин бегал вокруг с воспаленным от пожара лицом. Один мальчишка сломал ногу, и учитель унес его на руках в дом Парамона Петенбурга. В нижнем жиле выломали окна, кто-то из смельчаков забрался в избу и вытолкнул на улицу сомлевшую хозяйку Пелагею Креневу, но самого Федора Креня там не нашли.
Пока горело в самой избе и огонь не вымахнул наружу длинным языкатым пламенем, на улице было по-осеннему темно, и только в провалы окон выливался в черные лужи багровый живой свет. Мужики суетились с ведрами и топорами, но больше поглядывали на свои дома, толкая друг друга, пробовали подступиться к жилью и что-то спасти из добра. Но тут старинный сруб вспыхнул свечой, и гудящее пламя завилось в небе, раскидывая головни и искры: сразу стало так светло, что поначалу все ослепли, потом в стороне пронесся нелепый пугающий крик: «Федор по-весил-ся…»
Будто сегодня и случилось все, так явственно представила Нюра Федора Креня, его запрокинутую слегка голову с хмурой усмешкой на костяном лице, напряженные вытянутые ноги, обутые в рыбацкие бродни. Мужик висел в проеме дверей своей баньки лицом к избе. На лице шевелились малиновые отсветы пожара, и оно казалось живым, глаза в темных провалах устрашающе вспучились и пристально разглядывали людей, толпящихся на расстоянии.
Ваня Тяпуев обрезал веревку, и тело сползло на порожек. «У-у, кулацкий потрох», – сказал он громко и ненавидяще.
– И Палагу-то чуть не сожег, – говорили в толпе. – Ведь детишка малая наверху, осподи. Все порушить хотел. – Эти слова пуще всякой агитации воспламенили толпу, она загорячилась, окружая распростертое мертвое тело.
– Че он, че он? – домогалась какая-то бабенка, прискочившая слишком поздно. – Во-во, довели старика. Не снес насилья, во гневе душа не ведает, что руки творят…
– Загунь, – оборвал кто-то. – Палагу-то под замок посадил да сожегчи хотел. Это-то как подвести под хорошее поведение?
Нюра слушала людские речи и не понимала их. Она глядела на желтый костяной череп Креня с налипшими банными листьями, на крохотное его личико и удивлялась, как такой маломощный и невзрачный человек мог выпустить на свет громадного и красивого парня… Еще минутами назад она с больным и надорванным сердцем в груди суетилась меж всеми, кого-то толкала, чего-то тащила и плескала в огонь, глаза ее, расширенные страхом, замечали только спасенных ребятишек. Нюра поочередно хватала их, тискала у груди, нервно оглаживала, пока посторонние руки, наверное, учителя Ланина, не вырывали от нее затисканного, очумевшего от пожара и криков мальчишку.
А сейчас она стояла возле Федора Креня, вернее, возле того, что было когда-то натуристым, диким по нраву человеком, глядела на его костяную голову, заляпанную пеплом и палыми банными листьями, и мучительно соображала что-то, и унимала беспокойство лихорадочной мысли.
Изба догорела и осыпалась золотыми угольями. Только тут заметили люди, что уже светает.
– Нет предела людскому гневу, но есть мера зла и отмщения, которую переступит лишь сатана, – сказал церковный староста Антипа Заозеров и ушел домой. И, оставив караульного выборщика возле пожарища, чтобы уголек случаем не упорхнул на соседнее жилье, разбрелись и остальные, замученно зевая.
Золовка Калиства пробовала увести Нюру, но та, на голову выше родственницы, раза два толкнула молчаливо, и женщина отступилась, ушла обряжаться по хозяйству. Остались еще племянница покойного – Лидка, скуластая безгрудая девчонка, да Ваня Тяпуев. Избач достал где-то грязную рогожу, завернул старика. Он еще не забыл недавнюю милицейскую должность и не знал, как решить: то ли отступиться от кулацкого потроха, то ли по старому служебному положению составить акт, а тело предать земле, ведь гад не гад, но по верху земли не кинешь. Ваня и злился на свое рвение – вон другие-то спят себе, от сна пухнут, а он тут уродуйся, как собака, – но и уйти не мог, вот так просто взять и уйти, завалиться на полати и прикорнуть до третьих петухов. Какая-то человечья пружинка иль совестливость удерживали его возле удавленника, а может, был Ваня просто человеком порядка… Но только он матерился про себя и, размахивая руками, то и дело бегал к дороге и обратно. Все чудилось, что сейчас кто-то явится всевластный и освободит его от мучений.
И пока Ваня Тяпуев размышлял, как поступить, Нюра примерилась к рогожному кулю и, легко взвалив на плечо, пошла по грядам, путаясь в картофельной ботве. Лидка, словно привязанная, не спросила ничего, послушно поплелась следом, роняя крупные слезы: ей вспомнилось, как Федор, бывало, приходил к ним, качал на коленях и одаривал гостинцами. У него тогда была пушистая поясная борода, и Лидка любила искаться в ней и гладить, а дядя щурился и повторял только: «Ну и лиса, ну и патрикеевна…» А нынче отец был на промысле, и мачеха не хватилась Лидки, видно, угорела на пожаре, и девчонка, опухшая от слез, все больше и больше жалела Федора Креня и почему-то себя. Ваня Тяпуев ошалело заморгал глазами и, крича: «Эй ты, погоди-ко, вот глупа», – побежал следом за Нюрой, пробовал остановить ее, хватаясь за хлястик пальтюхи. «Чего тебе, ну?» – коротко спросила Питерка.
– Давай хоть лошадь возьмем, – ответил парень вяло, тут же заминая в горле последнее слово, потому что представил вдруг, как придется идти в колхоз и выпрашивать эту лошадь да что-то объяснять, а тогда и вовсе станет светло, деревня проснется, и ему, избачу Ивану Тяпуеву, будет стыдно и невозможно ехать на телеге рядом с кулацким потрохом. И снова парень накалился душой, шепотом разбранил людей, которые разбежались по избам, хотя и сознавал, что такому удавленнику нет на деревне чести, ведь даже родственники отвернулись от него, а сын, Мишка Крень, пропал где-то, так и не сыскали, и жена Палага лежит в бесчувствии, не приходя в себя.
Ваня повернул к своему хлеву и взял заступ, а догнал странную похоронную процессию уже на затяжном подъеме к деревенскому кладбищу. На самый верх, в покойницкий городок, заходить не стали, а решили копать яму обочь, под вересовым кустом. Избач ковырялся лопатой нехотя и ярился уже открыто.
– Кулацкий потрох, – повторял он любимое словечко, – зараза фараоновская, нечистая сила, возись тут с ним. Спустить бы куда с камнем на шее, чтобы не портил наш советский воздух…
– Уймись, щенок… Добро творишь, дак не касти пропащего человека, – прикрикнула Нюра и отобрала у Вани заступ. Парень пробовал хорохориться и выставлять узкую грудь, по женщина его не слушала, а стала мерно углубляться в землю, словно зарывала себя. Ваня сел поодаль, сплевывал под ноги и ревниво следил за Питеркой.
– Ну хватит, не генерал… Сойдет и так.
Они опустили рогожу с Федором Кренем в яму и зарыли ее, оставив под вересовым кустом крохотный холмик, который вскоре порастет мхом и ягодником и станет обыкновенной болотной кочкой.