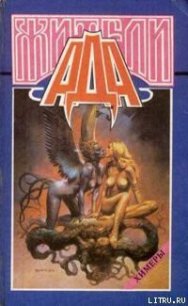Крылатая Серафима - Личутин Владимир Владимирович (книги онлайн полностью TXT) 📗
– Он не вонькой, а грешный, дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся… Иди к нам, и мы тебе воспоем и вечно поминать станем. Это ли не благо, вечное поминанье? Все забудут тебя, для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке, и только в нас ты найдешь прибегище.
– Вы кому-то грехи прощаете, а мне крохотный… Ну что стоит? Одна прихоть была в этой жизни, одна слабость – табачок, и той вы лишить хотите… Если вы лишаете меня, значит, и там, куда посылаете меня, мне тоже насилье будет и у меня табачок отымут и будут говорить: то делай, а то не делай, верно?.. Я своей верой прожила, помогала чем могла, к равенству стремилась, двумя орденами отмечена. Ну ты меня удивил, Евтихий. Значит, брошу табачок – и в рай? Кто-то на жаровне корчится, его рогами железными бодают, а я буду в окошко подглядывать да золотые яблочки кушать? Да они у меня в горле встанут… Не искушай меня, Евтихий, прошу тебя, а то я умирать расхотела, мне страшно умирать. Меня властью однажды искушали, верно? Хе-хе. Я ведь из баб первым секретарем сельсовета была в Вазице. Баба-секретарь. Маленькая, как пенек, из-за стола не видно, а сразу норов во мне заиграл. Я книг под задницу положила, сижу как на троне…
Один охотник пришел, одноногий, с деревягой, хлеба просил, а я не дала. Где, говорю, тебе хлеба возьму, тут тебе не богадельня. Рассказывали, он после-то лежит в лесной избушке, батогом в пол стучит и повторяет: «Сара, Сара, будь ты проклята». До сих пор помню. И сказала я себе: не возвышайся, Серафима.
– И Христос того заповедал…
– Ho как тогда: я яблочки есть, а может, того, с кем всю жизнь бок о бок прожила, хоть и Хрисанфа моего взять, будут рогами бодать?
– Он грешник, но если падет ниц, то простится.
– Не хочу так…
– Но где-то грешники должны пострадать за муки, что принесли, – вдруг вскипел Евтихий, вскочил со стула, затопал ногами, обутыми в зеркальные галоши и расписные шерстяные носки по колена. – Где-то кара должна быть за грехи?
– Пусть на земле им станет туго. Так надо постановить… А табачку верна буду. – Серафима достала из-под подушки пачку сигарет и положила на грудь.
– Ну, Серафима! – воскликнул Евтихий, вздел прорицательски палец и потряс им перед слепым старушьим лицом. – Не умереть тебе просто… Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Оттого и понять ты нас не можешь, что гордыня в тебе, бес в тебе. – И вдруг смиренно поклонился, осенил крестом и прошептал уходя: – А ведь наша ты, ангел ты наш у престола, крылатая Серафима.
Через два дня я уезжал, набив портфель всякими лесхозными инструкциями, как бы окончательно заступив на новую должность. Хрисанф подал по стопке отвального вина и троекратно расцеловал меня, смахнув мизинцем неожиданную скорую слезу. Серафима подозвала ко кровати, велела нагнуться, обжала ласковыми ладонями мою голову, от старушки пахло увядающей кожей: «Как хорошо, что ты навестил нас, верно? Как хорошо, что ты догадался приехать. Мы кузнецы, и дух наш молод, верно? Матери кланяйся, как увидишь, и скажи: мы кузнецы, и дух наш молод…»
Настасья провожала меня до пристани, грустная, ушедшая в себя. Последние дни мы избегали друг друга и молчали, словно боялись вспомнить случившееся у реки. И сейчас слова больно теснились во мне и умирали в темени.
Народ кипел на дебаркадере, усаживался, смеялся, что-то кричал шальное, и в этой суматохе, где крик вился под самое небо, мы вдруг впали в такое состояние, когда нам стало тихо до одуряющей тишины, и мы словно бы услышали, что думает каждый из нас. Двое было в миру, полуотвернувшихся, вроде бы скучающих, с тоской и нетерпением ждущих отвального гудка, но уже и соединенных странной общей виной.
Настасья вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб сухими шероховатыми губами, словно бы проводила на смерть. «Будешь в Городе, разыщешь?..» – спросила и, будто боясь ответа, торопливо пошла прочь. Я взбежал по трапу, у борта обернулся и увидел Настасьину сутуловатую спину и длинную надломленную шею. Она шла по берегу в сторону от дома, загребая ногами песок, словно каторжная, и вскоре скрылась за излукой реки, как наваждение. Такой она и осталась в моей растревоженной душе.
А нынче вот пришло известие, что Хрисанф умер. Знать, мучиться теперь Серафиме, как насулил ей того начетчик Евтихий.
Кто застонал, откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал; значит, и мне суждено полюбить? А я уже отчаялся, что все: как сиротливая травина на глухом песке завял.
Может, от герани так душно мне, и даже стопорит сердце. Нет воздуха в этом доме, ставленном моими руками и моим потом. Я, как был, в трусах и майке, выпрыгнул в окно, калиткой в палисаднике выбрался на волю.
Мишка Крень все так же сидел на китовом позвонке, как на стуле, потирал бурую шею и тупо смотрел в море. Я неслышно подошел, песчаная гривка, покрытая белесой осотной травкой, скрала шаги, сбоку взглянул па Креня и вдруг в чугунном его лице, заморщиненном и неряшливо закиданном седой шерстью, неожиданно увидел покорство и покой. Мне показалось неудобным окликивать старика, да и повода не было, но он, заслышав мое сдерживаемое натужное дыхание, испуганно вскочил, спрятал в землю взгляд и быстро пошел прочь. Его задубевшие пятки простучали по мосткам, как лошадиные копыта.
Три позвонка, как три желтых пенька, остались от кита, от когда-то великанского зверя, полного неукротимого духа. Я сел на позвонок, словно бы в кресло опустился, до того вытерт был он и отглажен, и всмотрелся в море. Зачем, по какой нужде ходит сюда ночами старый Крень, что видит он вдали слезящимися глазами, какие призраки навевает ему сиреневая тьма, встающая над краем моря? Может, мерещится ему вся истекшая жизнь, когда впервые, годовалым, он приковылял на срез моря, споткнулся, упал лицом в прибойную шелестящую пену и тревожно заревел, не в силах подняться. Прибежала на крик мать его Палага, наездила по сморщенной заднюшке и утащила в дом; в пять лет он жил на тоне и обсасывал семужий хрящик, борясь за него с косматой собакой, вьющейся у стола, которой тоже хотелось рыбьего пера; в десять он был отцу за напарника, а дальше уже все повелось-покатилось, как и у всех Креней, поднявшихся из родового семени. Вот и еще один, Хрисанф, кончился; но дрогнуло ли Мишкино сердце в то мгновение, ведь ему, одинокому, живущему в своей баньке хуже зверя, не от кого даже и узнать о том. А может, и дошел слух, и сегодня он, плотнее мостясь на китовом позвонке, по чудному и туманному наитию вспомнил не только того громадного зверя, посланного им чудесной волей, но и братана своего Хрисанфа, с которым достали кита. Как вспоминался ему тот давний день, хмельной и радостный, мне того не знать, но Хрисанфу те обстоятельства были памятны постоянно, и, рассказывая мне, он топорщил толстую бровь, сладко щерился длинным черным ртом и искренне удивлялся своей былой удачливости и нахальству. Ведь взяли задешево зверя, можно сказать, бог дал.
Везли на карбасе почту, слышат, чайки орут. Думают, наверное, кто утопнул, дак мертвого выкинуло; подъехали к тому месту, а там кит хвостом качает. Мишка-то Крень и кричит: «Бог нам золото дал». Чайки расклевали зашеек, а пасть у кита – во!
Стали из малопульки стрелять, да разве убьешь. Давай топором рубить; рубили-рубили – устали. А вода прибылая идет, кита стопило, вот-вот уйдет. Завязали веревками голову, думали удержать, а он хвостом качнет и мужиков, как щепину, волочит.
Тогда Мишка в воду, в чем был, из города ехал, так в парадном пиджаке, и кита веревкой заарканил за хвост. Как на оленя накинул.
Привязали к борту, повезли, так карбас-то зверя короче куда, вот сколь кит длиннющий… Мишка-то, помню, как увидал зверя, в воду кинулся, только голова торчит, и кричит: «Ой, бог золото дал!»
Нет кита того давно, съели его, и Хрисанфа вот не стало; и то золото источилось, кануло даром, не принеся Мишке Креню радостных удовольствий; и на последних заморщиненных позвонках, чудом не замытых штормовыми песками, сижу я.