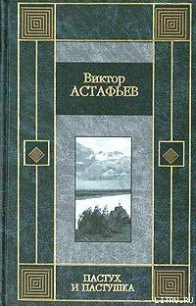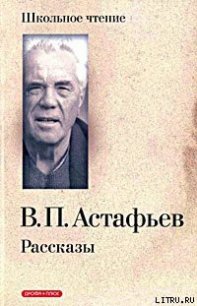Тельняшка с Тихого океана - Астафьев Виктор Петрович (книги хорошего качества txt) 📗
И я, знающий уж вроде бы пишущую братию, не вдруг догадался, отчего интерес твой возрастал не к девушке, а ко мне, и, по мере того как распогоживалось небо и все чаще и чаще гудели аэропланы над головой, делался ко мне внимательней.
Повторяю: это был чудесный день в моей жизни, день яркой дальневосточной осени, который, поверь мне, много свету повидавшему, сравнивать не с чем. Люда была весела, категорично-хозяйственна и говорлива. Ей прескучило общество учителей поселковой средней школы, все люди казались девушке значительными, содержательными, и мы тоже. Она много читала, даже что-то спела. И знаешь отчего? Да просто Людочке не с кем было поделиться тем богатством, которое она приобрела не очень-то легким трудом. Просто так ей давался лишь некий налет иронии и переутомленности интеллектом. Но на «этом уровне» сейчас работают многие молодые люди, однако она-то, самая видать интеллектуальная учительша в своей школе, этого не знала.
Ax ты, Боже ты мой, как, омывшись в ручье и с моего позволения оставшись в самом последнем прикрытии тела — закаленная, свободная, смелая! — в купальнике цвета неба с косыми белыми полосками на груди, коим надлежало изображать волну, и волна еще получалась на гибком ее теле, хорошо развитом, — как она, взобравшись на камень, из расщелины которого рос клен детсадовского возраста, обвешанный праздничными флажками, лопушистый, доверчивый, и поглаживая его, будто родное, долгожданное дитя, вскинув руку, кричала, вот именно кричала, звонко и страстно: «Лесом мы шли по тропинке единственной в поздний и сумрачный час. Я посмотрел: запад с дрожью таинственной. Гас. Что-то хотелось сказать на прощание — сердца не понял никто; что же сказать про его обмирание? Что? Думы ли реют, тревожно несвязные, плачет ли сердце в груди, — скоро повысыплют звезды алмазные. Жди!»
Девочка, девочка! Как она хотела в ту минуту, чтобы ее любили, чтоб нашелся кто-то, кто увидел бы, как она прекрасна, умна, целомудрена и какой восторг жизни раздирает ее грудь…
Не знаю чем, но с молодости, с бедной моей, инвалидной молодости я каким-то образом вселял бесовство в девушек, всегда они при мне хотели выглядеть способными на высокое чувство и всепрощение. А ведь я ничего не делал для этого, просто внимательно слушал, смотрел на них без мужского высокомерия, иногда у меня навертывались слезы на глаза от жалости к себе, они думали — к ним, словом, какое-то во мне «демонское стреляние» угадывали. Наверное, это и есть мой единственный талант, «тайна его», высокопарно говоря.
Но бывало и так, что бабы и девки, потерянные, грязные, запущенные, говорили, даже кричали, о том, что ненавидят меня. Я и тут их понимаю. Я многое начал понимать, мой молодой друг, а это всегда опасно. Писателю надо больше чувствовать, но понимать необязательно, его понимание равносильно убийственному: «Музыку я разъял, как труп», но людям-то не труп нужен, музыка, тайна нужна, и хорошо бы хоть немножко жутковатая.
Полагаю, что как раз вот этого — тайны или предчувствия ее — и недостает не только твоей повести, но и всем произведениям твоих сверстников, в особенности современной лирике. Вы часто пишете по поводу любовных дел, раздеваете ее, любовь-то, уподобляясь современным киношникам, которые простодушно объясняют, что убивают в кино не насовсем, страдают и любят понарошке, дома и подсолнухи нарисованы на картоне. Результат такой работы уже есть — они потеряли зрителя. Любовь, в особенности таинство ее, надо пытаться отгадывать с читателем вместе, и страдать, и болеть вместе с ним, и мучиться, но вот мучиться-то по отдельности вечной мукой, до конца не отгадавши, опять не отгадавши вечную тайну. Отравно-сладкая мука любви — самая высокая награда человеку, всегда нуждающемуся в наряде, в празднике, в украшении его жизни, деяний, мыслей, чувств, бытия его. «Нет мгновений кратких и напрасных — доверяйся сердцу и глазам. В этот час там тихо светит праздник, слава Богу, неподвластный нам» — это стонет и восторгается наш современник. А вот послушай-ка древнего поэта: «И мира нет — и нет нигде врагов; страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю, в пыли влачусь — и в небесах витаю, всем в мире чужд — и мир обнять готов. У ней в плену, неволи я не знаю; мной не хотят владеть, а гнет суров; амур не губит и не рвет оков; а жизни нет конца, и мукам — краю. Я зряч — без глаз; нем — вопли испускаю; я жажду гибели — спасти молю; себе постыл — и всех других люблю; страданьем жив, со смехом я — рыдаю; и смерть, и жизнь — с тоскою прокляты; и этому виной — о Донна, ты!» — а это исторгнуто из могучего сердца, по-могучему и страдавшего великим чувством более шестисот лет назад. Крестьянский сын, окопный солдат, вернувшись с фронта, я рыдал над этими строчками, ничего в них не понимая, но за что-то боясь, чем вбивал в панику любимую сестру, которая думала, что я натер протезом ногу и ноге больно.
Мне сдается, не от любви, не от жажды прекрасного: «О, господи! Дай жгучего страданья!» — а от натертостей, от трудовых мозолей на теле в ваших сочинениях вам больнее, чем от сердечных мук, и вы их, мозоли, телесную боль чуете, не чувствуете, а вот именно чуете и цените выше каких-то там глупостей, вроде: «Бей меня, режь меня…» или: «Мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю…»
А ведь все это живому сердцу нужно, как электроэнергия в квартире, как солярка дизелю, как крылья самолету. Самому тонкому, самому ранимому, самому капризному органу из всех, какие поместил в нас Господь Бог, всегда нужна движущая сила. Оно, сердце, помучит, но и научит нас понимать, что пока еще не все продается, что покупается, что счастье нищего поэта и по сей день дороже всего «злата» завмага «универсама». Не я так думаю, время так думает — самый непреклонный диктатор, и, если вы не посчитаетесь с ним, время сотрет, смоет вас и вы поодиночке остынете в коробках панельных домов, на куче злободневных книг про БАМ, тюменскую нефть и тихоокеанскую селедку. Вас никто не только не оплачет, но даже бесплатно на кладбище не свезет, родичи воспользуются вашим имуществом, юркие книголюбы разворуют вашу личную библиотеку…
Ах, как мне тогда хотелось, чтоб ты полюбовался Людочкой, порадовался ее порыву к головокружительному полету, когда женщина на все готова и никогда не сожалеет потом о свершенных глупостях. Но ты отчего-то сердито пластал ножом консервные банки, резал хлеб, полоскал в ручье помидоры, огурцы, остужал поставленную в воду «злодейку», и я помню, как отмочило с бутылки наклейку, завертело, понесло куда-то слово «водка», и успел еще подумать: «Унесло бы ее, заразу, от нас куда-нибудь навсегда» — это было задолго до постановления о борьбе с алкоголизмом, поэтому не подумай, что я подлаживаюсь под злободневность.
Гуще залетали самолеты. Мы задирали головы и согласно утверждали: «Не на-а-аш!..» Как хорошо было там, возле голубого, пенистого, холодного ручья, вырывающегося из раскаленных высоких гор. Как хорошо! И водочки маленько — не помешало, и горный воздух пьянящ был от горечи увядания, и некая сомлелость рассудка. Даже я напряг свою память, и мне, старому грешнику, тоже захотелось кого-нибудь порадовать и даже очаровать, я забыл про свой протез, про седины, и посейчас мне отчего-то не стыдно того глупого забвенья. «Зачем ты чаек приручаешь над белой отмелью тужить. Уйдешь, хоть в них души не чаешь, а птицам дальше надо жить. Кому оставишь на поруки, под чью заботу или власть?.. Еще так просто в злые руки им где-то за морем попасть».
Ну ладно, довольно.
Сейчас я тебе напомню, как мы прощались. Людочка вдруг присмирела, ужалась, несчастненькая сделалась и сразу подурнела, а я все повторял и повторял, как остроумный дундук на деревенской вечерке: «Людочка! Держи хвост пистолетом!» О боже! До чего же близко лежат глупости! И много их! Берешь, берешь, потребляешь, потребляешь, они все не убывают. «Ладно, буду», — трясла головой Людочка, тайно засунув в карман моего плаща маленькую руку, «тайно», с каким-то ей лишь понятным смыслом потискивающую мои пальцы. У выхода она обняла меня совсем некрепкими, совсем немускулистыми, слабыми женскими руками и по-женски же, беззащитно, с неизбывной бабьей печалью, молвила: «Спасибо вам, Вячеслав Степанович! Это был самый лучший день в моей жизни! Самый-самый!..» С трудом сдерживаясь, потупившись, я привычно съерничал: не мне, мол, Министерству гражданской авиации надо говорить спасибо. «Не надо, Вячеслав Степанович!» — попросила Людочка жалобно и ушла на свое место, туда, на батарею, прикрытую полированной доской, на которой лежала моя жалкая повесть, печальнее которой в ту минуту и в самом деле для меня не было на свете. Я презирал, ненавидел и себя, и книгу свою. И когда Людочка закрыла лицо широкими серыми, что солдатская портянка, страницами «Роман-газеты», мне захотелось броситься, выхватить, изорвать в клочья бумажное изделие.