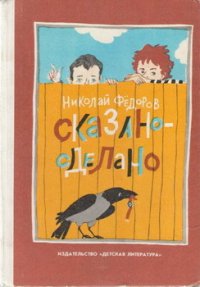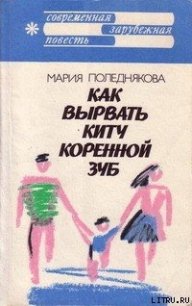Повести и рассказы - Халфина Мария Леонтьевна (книги хорошего качества .TXT) 📗
Вскоре Матвей опять вроде бы поскучнел, стал отдаляться. И не вообще от людей, а от Веры он стал отдаляться, и она это сразу же остро почувствовала.
Настал выходной, когда он ушел в лес, не пригласив ее на воскресную уху. Не позвал посидеть у их родничка…
Весь день Вера возилась с хозяйством, дулась на весь белый свет, рычала на мужиков — все стало не мило, все было не по ней. А когда начало смеркаться, схватила рыбную корзину и, не звана, не прошена, отправилась на нижнюю заводь.
Матвей Егорович встретил ее приветливо. Угостил вареной стерлядью, потом они пили чай, на этот раз уже с брусникой; горьковато, кисленько, а пьешь — не напьешься.
Матвей помалкивал, а Вере, как на грех, не терпелось поговорить. Посоветоваться бы, обсудить сообща очень важный для нее вопрос. Но если человек молчит, как пень, не будешь же из него каждое слово силком вытягивать.
Веру начало клонить в сон. Пора, видимо, и честь знать. Нагостилась. Как говорится: «Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева?»
Она поднялась от костра, потянулась за корзиной, но тут и Матвей вроде очнулся от дремоты.
— Подожди, Вера, сядь… — попросил он и, когда Вера опустилась на свое место, спросил, не поднимая на нее глаз: —Чего этот Останкин около тебя крутится? О чем вы с ним все говорите?
— Сватает он меня… — помолчав, отозвалась Вера. — Я сама уже давно хотела с вами посоветоваться. Вдовый он. Жена у него была очень хорошая, — он рассказывает о ней и плачет. Двух девочек она ему оставила: Ниночке шесть лет, а Танюшке еще и трех нету. Он мне фото показывал: хорошие такие девчушки, худенькие, большеглазенькие. Живут у тетки из милости.
Вера вздохнула и помолчала.
— Я бы, Матвей Егорович, пошла… Так мне этих девочек жалко, но очень уж я мечтала, как договор кончится, к Ивану Назаровичу поехать. Плохо ему, он хоть и не зовет меня, а ждет — знаю. И потом так думаю: Останкин для своих девочек найдет добрую женщину, а Иван Назарович… ну, кому он нужен — старый, больной?
Матвей молчал.
— А ведь это он жениха-то мне наворожил… — фыркнула Вера. — Помните? Заведет бывало: «Эх, Верка, Верка! Не знаешь ты себе цены. Я, может, через то и алкоголиком был, что не нашел себе доброй бабы. Чего ж ты мне лет тридцать назад не встретилась?» Я засмеюсь: «Это вам, Иван Назарович, теперь так кажется, когда вам шестьдесят. А в тридцать-то лет вы бы мимо прошли и не заметили, что я женщина».
Матвей молчал.
— Эх, Верка, Верка! — вздохнула Вера. — Наворожили жениха, а Верка теперь и ломай голову, на что решиться…
— Не пойму я… — хмуро сказал Матвей и, надломив прутик, швырнул обломки в огонь. — Зачем тебе чужие дети понадобились? Ты что, своих народить не способна, что ли?
— Ребенка родить — больших способностей не требуется… — невесело усмехнулась Вера. — А вот как перед ним потом оправдываться?.. Разве такой, как я, можно детей иметь? А вдруг он в меня зародится? Еще не так страшно — если мальчонка, а если девочка? Чтобы потом мучилась весь век да кляла меня.
Матвей смотрел на Веру дикими глазами, но она ничего не замечала. Вслух она об этом говорила впервые. Странно было и как-то удивительно легко. Есть же, оказывается, на свете человек, которому можно это все рассказать.
— Вы знаете, я с семи лет и до четырнадцати в детском доме воспитывалась, под Полтавой. Заведующая наша Лариса Леонидовна красавица была и очень во всех красоту ценила, особенно в детях. Наш детдом был передовой. Всегда у нас гости любили бывать. Шефы разные, комиссии, а в праздники обязательно начальство разное приезжало… Самодеятельность у нас была просто замечательная. Построят детей в зале — дети поют, танцуют, стихи разные рассказывают, нарядные все, красивые, как цветы. У гостей даже слезы на глазах… так все красиво. Ну, а которые дети очень уж невидные, те в это время дежурят: по кухне, по прачечной или на скотном дворе. Я сначала никак понять не могла, — маленькая была, глупая — почему меня уводят? А потом поняла. И ничего, привыкла… Увижу, что гостей ждут, и уже сама мигом на кухню или в прачечную. А летом меня всегда на подсобном держали: хозяйство было богатое — скота, птицы много. Я к двенадцати годам заправской птичницей стала… Если бы не школа, я бы круглый год на подсобном жила… Школу я не любила, книги читать с первого класса втянулась, а школу очень не любила… Все время на людях… а ни кухни, ни прачечной нету, — укрыться негде… Маленькая я на ласку страшно жадная была: приласкает кто меня мимоходом, я, как собачонка, следом бежать готова. А потом отшатнуло меня от людей. Я тогда все в зеркало гляделась. Встану перед зеркалом: почему же я не такая, как другие девочки? В кого я такая противная получилась? Я же ничего о себе не знаю. Я ведь подкидыш… Ничего я не знаю. Может быть, она и не виновата передо мной… мама-то моя. Может быть, она умерла, когда я родилась… и совсем не она меня подкидывать-то носила… А может быть, сама она еще совсем девчонкой была и тоже некрасивая… Не такая, конечно, как я, но все же не очень хорошенькая, а он красивый, и она его любила больше жизни, как Катюша Маслова. Вот он ей сказал: избавишься от ребенка, тогда я, возможно, еще и женюсь на тебе… Лично я все равно этого не понимаю. Я бы от своего ребенка никогда бы не отказалась. Даже не знаю, как бы я им дорожила!.. И нисколько я за позор не считаю, если у дивчины ребенок родится. Я бы ни на минуточку даже не задумалась, родила бы себе маленького и воспитала. Вы знаете, сколько я таких книг перечитала, чтобы правильно ребенка воспитать… Если бы не боялась, что родится такой, как я… Подрастет, начнет понимать и скажет: какое же ты имела право…
— Слушай, ну что ты мелешь?! — сердито перебил ее Матвей. — Зачем ты выдумываешь чепуху всякую? Внушила себе черт-те что… слушать тошно!
— Ой, Матвей Егорович. Что вы головой трясете? Чего вы смотрите на меня, как на дурочку какую? Вы красивый — вам такое даже не понять… И чего вы сердитесь? Это же сто лет назад было, когда я еще девчонкой была. Очень мне тогда плохо было. Нет ничего хуже, когда никого не любишь и ничему хорошему верить не хочешь. Люди к тебе с добром, а ты от них за угол. Никогда я не забуду, как в эвакуации люди с нами последним куском делились. И потом, когда я из детдома «в люди» вышла… Рудакова, тетя Лиза, уборщицей работала, бедность, трое детей, от мужа похоронка… узнала, что я в коридоре в мужском общежитии перебиваюсь… пришла, увела к себе. Я у нее полгода жила, пока в женском общежитии место хорошее дали. Или Антонина Воропаева — конопатчица, грубиянка, матерщинница… Как-то я при ней уронила на ногу себе болванку… и сматерилась. Она подошла и ладошкой по губам мне: «Не смей, говорит, чтоб никто и никогда больше этого от тебя не слышал». А сама даже побледнела, и губы у нее трясутся… Да разве перескажешь все… Очень много я тогда думала. Просто как псих какой. Стала к жизни присматриваться, к людям. Меньше стала романам верить. Ну, пусть и некрасивая, но ведь не урод же я, не калека, не дура. Здоровье у меня хорошее, силой бог не обидел, а если некрасивая… так не давиться же теперь из-за этого? И люди не виноваты, что я такая уродилась. И еще тогда меня одна мысль мучила: почему так получается? Другому человеку, например, все дано: и здоровье, и ум, и образование, и красота, а жить ему плохо. Очень мне хотелось докопаться — чего людям нужно, чтобы быть… это, ну как его? Счастливым, что ли?
— Ну и докопалась? — Матвей отвернулся, чтобы спрятать невольную улыбку.
— И докопалась! — вызывающе ответила Вера. — Первое — это должны люди сделать так, чтобы никогда больше не было войны. Люди должны жить спокойно, а какая же это жизнь, если человек знает, что сейчас все хорошо, а через минуту вдруг начнется какая-нибудь заваруха, и все его труды, все старанья — все к черту, в яму, в огонь.
— Так, так… — поддакнул Матвей. — Может быть, еще чего-нибудь этому человеку не хватает?
— А еще, я так считаю, очень озлобляются люди от бедности, особенно молодые, а также многосемейные, когда приходится каждую копеечку высчитывать, чтобы как-то до получки дотянуть. А хуже всего для человека — это обида, несправедливое отношение вообще, когда что-нибудь не по правде делается…