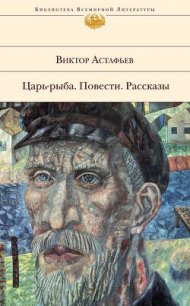Царь-рыба - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн полные версии .txt) 📗
Уснувшую на удах рыбу прежде увозили на берег, закапывали, но раз ловля стала нечистой, рваческой, скорее дохлятину за борт, чтоб рыбнадзор не застукал. Плывет рыба, болтается на волнах, кружится в улове, приметно белея брюхом. Хорошо, если чайки, крысы или вороны успеют слопать ее. Проходимцы, пьяницы и просто тупые мародеры продают снулую рыбу. Загляни, покупатель, в жабры рыбине и, коли жабры угольно-черны иль с ядовито-синим отливом – дай рыбиной по харе продавцу и скажи: «Сам ешь, сволочь!»
На Акимовом самолове из тридцати двух стерлядей живых девять. С горьким вздохом сожаления Аким отбросил дохлых рыб в нос лодки. Мне так хотелось описать рыбу, бьющуюся на крючке, слепо бунтующую, борющуюся за себя, воспеть азарт лова, вековечную радость добытчика. Нечего было воспевать, угнетало чувство вины, как будто при мне истязали младенца иль отымали в платочек завязанные копейки у старушки. Я попросил Акима отвезти меня на берег – чай буду варить, за цветами схожу, луку нарву. Не прекословя, Аким завел мотор, послушно высадил меня на берег.
– Говорил я те, говорил?! Разостроишься только, – тихо сказал он и уплыл досматривать второй конец.
На беду, попался осетришка килограммов на двенадцать, запоролся удами – долго не выплывали на самоловы – похороны, поминки, меня остерегался ловец, после загулял. Когда Аким тащил рыбину через плечо, вдруг с треском оторвался клапан жабры – осетрина, скомканный, прелый, упал на камни, полезли из него пузырем кишки.
– Медведь сожрет, может?
– Нет, не станет, – потупился Аким. – Даже он, скотина, привычная ко всякой дохлятине, загнется. Такая, пана, отрава в этой рыбе. Тарзан… Помнишь, на Опарихе который остался, дурак-то? – приплыл за им. Воет. Оголодал. Налим на уду впоролся. Я и дай Тарзану, – Аким вымыл руки с песком, и мы неторопливо пили чай. – Там вон Тарзан закопан, – после долгого молчания мотнул он головой на заросли тальников в устье Опарихи.
– Прошу тебя, Аким, сними эти ловушки, сними! Иначе я к тебе не приеду.
Сложив пожитки в мешок и в ящичек из-под самолова, Аким снес багажишко в лесную утайку – мы отправлялись на весь день удить хариуса – и уже в лесу, на привале прервал молчание.
– Хошь не хошь, концы сымать придется. Родня покойника наказала: лодку, мотор, снасти сдать в целости и сохранности.
Родственнички! Достойные дети мизгирева гнезда! Много лет Аким, кроме Колиного дома, не знал никакого приюта. Его, этот домишко, и строили они вместе, деньжонки, какие зарабатывал Аким, нес как в свою семью, лодочный мотор, битый-перебитый, ношеный-переношеный, по гайкам перебирал, варил, паял, лодку упочинивал, затыкал, смолил, дров на зиму наплавил… Но ушел друг из жизни – и от ворот поворот человеку. Дешево, не по-сибирски мелко начали вести себя за гробом мои земляки, и не только в Чуши.
– Нис-се-о-о! – бодрился Аким. – Нисе-о. На Сурниху подамся. Новый леспромхоз там открывается. Пять специальностей, пана, имею, нигде не пропаду!
В устье речки Сурнихи вырос поселок. Электричество на улицах светится, клуб возведен, столовая, детсад, жилье, тротуары проложены. Заселение поселка начнется осенью, заготовка древесины зимой, а тут такая невидаль – все готово для рабочих. Везде бы так – сначала условия человеку, потом работу с него спрашивай.
Мои мысли взяли разгон: что, если и древесину здесь станут брать разумно, по-хозяйски, не устраивая мамаева побоища на лесосеках? Приенисейская тайга необозрима, много в ней спелого, перестойного леса, так остро необходимого большому хозяйству страны. И вот, пять и десять лет спустя приехать бы к Акиму в гости, посетить могилу за околицей старого поселка, где под кустом смородины успокоенно лежит рано изработавшийся, много бед и мало радостей повидавший брат, порыбачить на Опарихе, где рыбачили мы когда-то так памятно, компанией, уснуть под слитный шум кедров и темных елей. Их слышал брат, слышат дети и слышали бы дети его детей.
ЦАРЬ-РЫБА
В поселке Чуш его звали вежливо и чуть заискивающе – Игнатьичем. Был он старшим братом Командора и как к брату, так и ко всем остальным чушанцам относился с некой долей снисходительности и превосходства, которого, впрочем, не выказывал, от людей не отворачивался, напротив, ко всем был внимателен, любому приходил на помощь, если таковая требовалась, и, конечно, не уподоблялся брату, при дележе добычи не крохоборничал.
Правда, ему и делиться не надо было. Он везде и всюду обходился своими силами, но был родом здешний – сибиряк – и природой самой приучен почитать «опчество», считаться с ним, не раздражать его, однако шапку при этом лишка не ломать, или, как здесь объясняются, не давать себе на ноги топор ронить. Работал он на местной пилораме наладчиком пил и станков, однако все люди подряд, что на производстве, что в поселке, единодушно именовали его механиком.
И был он посноровистей иного механика, любил поковыряться в новой технике, особенно в незнакомой, дабы постигнуть ее существо. Сотни раз наблюдалась такая картина: плывет по Енисею лодка сама собой, на ней дергает шнур и лается на весь белый свет хозяин, измазанный сажей, автолом, насосавшийся бензина до того, что высеки искру – и у него огонь во рту вспыхнет. Да нет ее, искры-то, и мотор никаких звуков не издает. Глядь, издали несется дюралька, задрав нос, чистенькая, сверкающая голубой и белой краской, мотор не трещит, не верещит, поет свою песню довольным, звенящим голоском – флейта, сладкозвучный музыкальный инструмент, да и только! И хозяин под стать своей лодке: прибранный, рыбьей слизью не измазанный, мазутом не пахнущий. Если летом, едет в бежевой рубахе, в багажнике у него фартук прорезиненный и рукавицы-верхонки. Осенью в телогрейке рыбачит Игнатьич и в плаще, не изожженном от костров, не изляпанном – он не будет о свою одежду руки вытирать, для этого старая тряпица имеется, и не обгорит он по пьянке у огня, потому что пьет с умом, и лицо у Игнатьича цветущее, с постоянным румянцем на круто выступающих подглазьях и чуть впалых щеках. Стрижен Игнатьич под бокс, коротко и ладно. Руки у него без трещин и царапин, хоть и с режущими инструментами дело имеет, на руках и переносице редкие пятнышки уже отлинявших веснушек.
Никогда и никого не унизит Игнатьич вопросом: «Ну, что у тебя, рыбачок, едрена мать?» Он перелезет в лодку, вежливо отстранит хозяина рукой, покачает головой, глядя на мотор, на воду в кормовом отсеке, где полощется старая рукавица или тряпка, култыхается истоптанная консервная банка, заменяющая черпак, прокисшие рыбьи потроха по дну растянуты, засохший в щели пучеглазый ерш. Вздохнет выразительно Игнатьич, чего-то крутанет в моторе, вытащит, понюхает и скажет: «Все! Отъездился мотор, в утиль надо сдавать». Либо оботрет деталь, почистит, отверткой ткнет в одно, в другое место и коротко бросит: «Заводи!» – перепрыгнет в свою лодку, достанет мыло из карманчика лодки, пластмассовую щетку, руки помоет и тряпицей их вытрет. И никакого магарыча ему не надо. Если пьет Игнатьич, то только на свои и свое, курить совсем не курит. В детстве, говорит, баловался, потом – шабаш – для здоровья вредно.
– Чем тебя и благодарить, Игнатьич?
– Благодарить? – усмехнется Игнатьич. – Ты бы лучше в лодке прибрался, сам обиходился, руки с песком да с мылом оттер. Чисто чухонец, прости господи! – Оттолкнется веслом Игнатьич, шевельнет шнурок – и готово дело – только его и видели! Летит дюралька вдаль, усы на стороны, из-за поворота иль из-за острова еще долго слышен голосок, и, пока не умолкнет в просторах нежный звон мотора, полорото торчит рыбак средь лодки и удрученно размышляет: в одной деревне родились, в одной школе учились, в одни игры играли, одним хлебом вскормлены, а поди ж ты!.. «Шшоткой руки! С мылом! Шшотка сорок копеек стоит, мыло шешнадцать!»
И примется хозяин лодки со вздохом наматывать шнур на скользкий от бензина и копоти маховик, с некоторой пристыженностью и досадой в душе на свою неладность, а если прямо сказать – на недоделанность. …