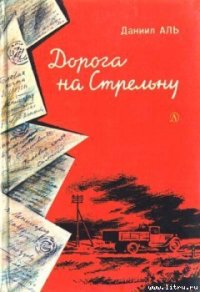Пермский рассказ - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Степан больше не трогал черемуху, а задумчиво смотрел куда-то поверх леса и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону и спросил:
— Ты чего притих-то?
— Ягоды вот ем.
— A-а! Ягоды на этой черемухе отменные, а мне памятные. — И без всякой околесицы стал рассказывать.
Он рассказывал о том, как в конце августа они шли с Надеждой из больницы вдоль этой высоковольтной линии.
Они не были женаты. И познакомились не так давно, в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала уборщицей в конторе и мыла разнарядку, заплеванную и обляпанную сапогами и спецовками шахтеров. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет шесть в няньках.
Раза три или четыре они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза три или четыре Степан провожал Надежду домой. В троицу они ходили с самоваром на луга. Первый раз там поцеловались. Назавтра Степану оторвало кисти обеих рук.
Беда заслонила от Степана все: и шахту, и свет, и Надежду. Все, кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва, и потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Сделалось страшно потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел два дня, боясь заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Мужики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался и, пылая от жара и стыдливости, думал: «Вот так всю жизнь?»
Ночью он встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижал лицо к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал:
— Степа! Ты не мучайся. Я здесь, около тебя. Дома все в порядке. Мать не пущаю к тебе. Сердце у нее…
Он ткнулся в марлю, порвал ее. В темноте раскаленными от боли култышками нащупал Надю, притиснул ее к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, настойчиво шептала ему сквозь спутанную марлю:
— Худого в уме не держи. Ладно все будет. Не держи худого-то…
А он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался:
— Руки-то жжет, жжет…
И она стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишки на «ваву», и гладить их, приговаривая:
— Сонный порошок попроси. Как-то он мудрено называется, не помню. Во сне-то скорее заживает. Попроси уж, не гордись. И худого не думай… — А сама дула и дула ему на култышки.
И то ли с этого, то ли от выплаканных слез пришло облегчение, и он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к выкрашенной оконной подушке.
Утром он сам попросил мужика, что был попроще с виду, помочь ему справить нужду.
А Надя каждую ночь приходила под окно: днем она не могла отлучаться с работы.
Он отговаривал ее:
— Ты хоть не так часто. Восемнадцать верст туда да обратно…
— Да ничего, ничего, Степа. Я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек байкала, чужих.
В день выписки она пришла за ним, первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок пожитки Степана. Он безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Она смущалась от этого и спешила. Потом всем улыбнулась и скованно раскланялась:
— Поправляйтесь быстрее.
Больные недружным хором попрощались с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел и быстро вышел из палаты.
Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила:
— Может, попить хочешь?
— Нет! — угрюмо помотал он головой.
По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редеющую паутину.
— Ишь ведь мчится! — заговорила Надежда. — Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются?
Степан пожал плечами — при чем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать на зиму, сено с делян привезти, а чем, как?
Совсем некстати вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел он посреди деревянного тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными вьющимися бакенбардами, и не просил, а требовал, особенно у приезжих: «„Три мессера“ на одного „лавочкина“ — и вот приземлили с-суки! Кинь рублевку на опохмелку, если совесть есть…»
Совести у наших людей дополна, последнее отдадут, разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому. И потом что же? Вывалиться вроде Кости-истребителя из пивнушки и гаркнуть: «Л-любимый город может спать спокойно-о!..», и самому лечь спать тут же, у пивнушки?
«Тьфу ты! Навязался еще этот истребитель!» — отмахнулся мысленно Степан и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось.
Скоро вот, через час-два, придет в поселок, и высыплет все малочисленное население этого поселка встречь, бабы станут сморкаться в передники, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы «не растравлять» душу ему и себе.
Скупой пасечник Феклин с подсобного хозяйства принесет банку меду и с таинственной многозначительностью сунет ее матери на кухне и с протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох-хо-хо, судьба-кобыла, куда завтра увезет — не знаешь!» И станет деликатно переминаться и чего-то ждать.
Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука поллитровку. Феклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж если по одной», — и затешется на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему «Как надо уметь жить». И станет приводить себя в пример, удивляя людей своей проницательностью, ловкостью, бережливостью и прочим и прочим.
И все будут терпеливо слушать его, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он и скупердяй, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених.
Совсем стало тошно Степану от этих мыслей. «Может, Надька турнет этого Феклина из избы? А что? Она, пожалуй, турнет, — появилась робкая надежда у Степана. — Поговорить бы надо с нею. Как нам теперь быть? Что делать? Э-эх, лучше бы уж одному все это переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем?»
Под ногами зачавкал разжульканный торф. Они подошли к ручью.
— Ох, какая черемуха чернущая! — воскликнула Надежда и бросилась к ней. Подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила и приказала: — Держи!
Степан боднул ее взглядом: чем держать-то? Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый набок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянуло, заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести.
Она нарвала полный подол черемуховых кисточек, села на траву и скомандовала:
— Отпускай! Будем есть.
Степан отпустил ветку, и та, взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла.
— На! — сказала Надежда и поднесла к его губам кисточку.
Холодноватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился:
— Не хочу.
— Как хочешь. А я поем. Я люблю черемуху и пока до отвала не намолочусь — с места не подымусь.
— Дело твое.
Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уже не хочется ягод и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет.
Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти помочь ей или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял нагой до пояса лес. В торфяных кочках тайком пробирался через запретную зону ручеишко. И, прихваченные первыми инеями, клонились к нему квелые цветочки, грустя по кончающемуся лету.
— Так как же мы будем, Надежда? — прервал тяжелое молчание Степан.