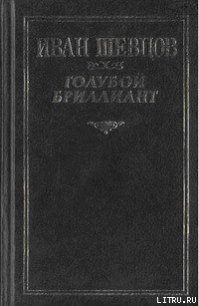Во имя отца и сына - Шевцов Иван Михайлович (читаем полную версию книг бесплатно .TXT) 📗
И вот теперь Коля встретился с ним на заводе. Интересно, узнал его Глебов или нет. Наверное, нет. А Коля Лугов запомнил его. И у него было так радостно и светло на душе.
Посадов спешил. Куда, зачем - он и сам не мог сказать. Выйдя от Глебова, он грузно ввалился в такси и на вопрос: "Куда ехать?" - ответил неопределенно:
- Поезжайте вперед, а я подумаю… Скажу потом.
Он думал долго… Заехать к Климову, что ли? Недавно виделись. К отставному генералу - старому приятелю? Поздновато: он рано ложится. Оставалось одно -ехать домой. Он не любил свою квартиру вечером, особенно в зимнее время. Она нагоняла на него тоску, напоминала о прошлом, о том, что прежде вечера он проводил либо в театре, либо в кругу друзей-артистов - домой возвращался за полночь, принимал душ, ложился в холодную, с утра не прибранную постель и сразу засыпал. По старой привычке он и теперь не мог уснуть до двух часов, преследуемый бессонницей, которой страдают пожилые нервные люди. Он пытался бороться с ней работой, но безуспешно: после полуночи он уже ничего не мог делать, даже читать. И тогда он попадал в плен назойливых, неприятных, неотступно преследующих его дум, от которых убегал в течение дня. Они настигали его в полночь, в тишине неуютной холостяцкой квартиры.
Летом было проще: ему удавалось спрятаться от одиночества. Садился в такси и ехал. Не важно куда: в Останкино, в Главный ботанический сад, в Сокольники, в Химки или за город, на дачу к приятелю. Он с нетерпением ждал весны.
Алексей Васильевич ничем не хворал: болезни обходили его стороной, и все же в последнее время он начал ощущать недомогание. Могучий организм, которому, казалось, не будет износу, начал незаметно сдавать. Сам Посадов видел причину этого в духовной неурядице, в постоянном раздражении от неудовлетворенности, которое и расшатывало нервную систему. Уход из театра "по старости", на пенсию, пусть даже с почетом, он пережил тяжело. Ведь он-то знал, что подлинная причина ухода из театра была не в старости, а в конфликте с директором, в острых столкновениях по делам далеко не мелочным. Спор шел по большому счету, по вопросам репертуарной политики. Посадов со свойственной ему прямотой и откровенностью высказал давно наболевшее: театр утрачивает национальные традиции - ставит всякую переводную дребедень, в которой настоящим искусством и не пахнет. Театр боится героического, патриотического, предпочитая ему дешевую "проблематичность". Режиссура увлекается сомнительными экспериментами, пытаясь возродить худшие образчики театральных поисков двадцатых годов.
- Вы, уважаемый Алексей Васильевич, отстали, утратили чувство времени, - холодно ответил ему директор. - Если вам не нравятся роли… что ж, ничем не можем помочь.
Это звучало так: можете уходить, мы вас не держим. А когда Посадов, сославшись на свой прежний режиссерский опыт в народно-героическом театре, пожелал ставить спектакли, ему отказали.
Уйдя на пенсию, Посадов занялся театральными и радиотелевизионными инсценировками русской и советской классики. Однако театры пьес его не принимали: режиссеров классика не интересовала. Работа в заводском народном театре увлекла, зажгла большие надежды. Успех первых спектаклей во Дворце культуры окрылил его, но ненадолго: вскоре он понял ограниченные возможности народного театра в условиях Москвы. Равнодушное отношение к театру со стороны бывшего секретаря парткома завода и систематические стычки с Марининым гасили в нем самые лучшие надежды. Все чаще и чаще одолевали горькие мысли об утраченных грезах. С болью думал о том, что творческая жизнь его миновала, что многое осталось неосуществленным, и не по его вине. Ему мешали. А он не хотел сдаваться. Он отлично понимал, что идет ожесточенная идеологическая борьба, видел расстановку сил, знал стратегию и тактику противника, безошибочно определял, кто по какую сторону баррикад стоит, и возмущался, когда некоторые должностные лица не умели или не желали разбираться в обстановке.
Он утешал себя: пока я живу - я борюсь. И когда из редакции драматического радиовещания ему пересылали трогательные отзывы слушателей - рабочих, пионеров, солдат, студентов, ученых - он плакал. И это не были слезы чувствительного старика. Это было волнение бойца, который знал, что он не одинок, что он нужен обществу.
Доброе слово простых людей вызывало новый прилив творческих сил, ярость в работе. Он нес на радио подготовленные им новые передачи: инсценированные рассказы, повести, пьесы.
Возвратившись домой, Алексей Васильевич принял, по обыкновению, душ, выпил стакан кипяченого молока и лег в постель. Люстра была выключена, у изголовья горел старинный канделябр, отбрасывая на стену резкие тени. Спать не хотелось. И читать тоже не хотелось. И думать не хотелось. Но последнее не удавалось: думы наседали.
И как ни старался Посадов гнать от себя беспокойные мысли, они вновь и вновь возвращались к нему, незаметно, тайком вливались в ткань текущих дум, образуя собой нечто общее, единый поток извечной мысли о жизни, смерти и бессмертии. "Пока я живу - я творю, я делаю для людей доброе дело и этим счастлив, - размышлял Посадов, погасив канделябр. В темноте думы плыли спокойней, неторопливо, казались более весомыми и глубокими. - Но что будет потом, после меня? Что оставлю я людям? Мраморную плиту на кладбище, которая нужна разве что близким родственникам, которых у меня нет? Несколько второстепенных ролей, сыгранных в третьестепенных кинофильмах? Ведь главное было в театре, на сцене. А театр, как и газета, - он для современников. Пока ты жив - ты есть, тебя знают и помнят. Ты умер, и остается лишь кусок мрамора на кладбище или, в лучшем случае, на здании, в котором ты жил. Но это личное, и бог с ним, с личным. Важно другое: останется ли то, во что ты верил, во имя чего горел, чему отдал все свои силы и жизнь - большое искусство, реализм, идеи твоего века? Не будет ли все это уничтожено теми, кто уже сегодня издевается над святынями народа? Вот и недавно один популярный писатель в интервью с иностранным корреспондентом сказал с раздражением, что Третьяковку нужно было давно сжечь, поскольку она мешает новому искусству". Вспоминая этот факт, он думал о Маринине. Для Посадова это был обобщенный образ, как он выражался, "духовных растлителей". Конечно, Посадов понимал, что Маринин - мелкая карта в крупной игре, но сквозь Маринина, как сквозь призму, он просматривал всех игроков - тузов и королей, тактику коварства, подлости и цинизма. Вера марининых, их святая святых - деньги и власть. Маринины всегда стремятся быть наверху. Маринину нравится все то, что нравится буржуа. В том числе и в области духовной жизни. Маринин поддерживает абстракционистов, потому что там не требуется таланта. Там любой шарлатан успешно венчается лаврами гения. И взбирается наверх, в то время как подлинные таланты, выразители дум и чаяний народа вынуждены влачить жалкое существование и умирать безвестными. То же самое и в жизни. Маринин пропагандирует Воздвиженского и Капарулину потому, что их стихи - то же шарлатанство абстракционистов. Там нет мыслей, нет поэзии, изящества, начисто отсутствует прекрасное. Посадов был убежден, что и Воздвиженский и Капарулина - растения искусственного происхождения. Им создали признание и известность за рубежом и навязали нашему читателю все те же маринины, которые любят болтать о так называемой свободе мнений, о терпимости к инакомыслящим. "А дай Маринину власть, так он тебе покажет свободу, - рассуждал сам с собой Посадов. - Он всех инакомыслящих в ярмо впряжет. Всех заставит плясать твист под вой саксофона".
В идеологической борьбе двух миров Посадов предпочитал наступательную тактику. Однако были и другие - "оборонцы". Свои позиции они всегда оправдывали магической фразой: "Не так просто…"
Она произносилась всегда таинственно, с намеком на что-то серьезное. В самой фразе и в интонации был не только призыв к осторожности, но и предупреждение о возможности, вернее, неизбежности каких-то трагических последствий. Эту фразу произносили многие: и сторонники "оборонительной" тактики, и те, кто откровенно попустительствовал марининым, и сами маринины. "Не так просто" - это был своего рода щит. За ним скрывалось нечто запретное и страшное, чего нельзя было произносить вслух.