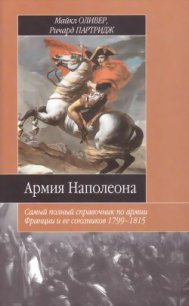Северное сияние - Марич Мария (читать книги без сокращений .TXT) 📗
И чем больше знакомился Басаргин со всем укладом жизни военных поселений, тем больше убеждался в длинной цепи фальсификаций и хитро скомпонованной бутафории, которые были придуманы Аракчеевым для сокрытия подлинного, бесчеловечного, быта военных поселенцев.
Возвращаясь в ближайшую к аракчеевскому дому «связь», — так назывались однообразно устроенные в поселениях избы на две семьи, — Басаргин обычно долго не мог заснуть.
Его жизнь, обеспеченная чужим трудом, безоблачно счастливая в последние полгода со времени женитьбы, казалась ему невозможно несправедливым благом. Будто тоскливые глаза поселенцев беспощадно корили его за это счастье.
Хотелось оправдаться перед ними и перед самим собой. И он старался думать об опасности, которой подвергает свое благополучие тем, что участвует в Тайном обществе. Пробовал вообразить себя в крепости, в ссылке, но представления эти были туманны, а ярко и соблазнительно всплывали перед глазами другие картины. В особенности такая: уютная нарядная спальня. Туалетный стол с двумя свечами перед овальным зеркалом, а перед ним на круглом табурете, вся розовая — то ли от счастья, то ли от розовых колпачков на свечах — жена. Распустила косы, и волосы закрыли ей плечи и спину.
И ему хочется подойти к ней, раскинуть душистую тяжесть волос. Он делает порывистое движение. Вздрагивает — и уютная комната уплывает. Он снова в аракчеевской вотчине. Одиноко. Тоскливо. Какая-то гнетущая тишина. И хочется зажмурить душу, как жмурят глаза, когда в непроницаемой темноте вдруг вспыхнет яркий свет…
«Если нынче не уедем, — решил он, проснувшись на рассвете, — то скажусь больным и уеду один».
Наскоро одевшись, Басаргин вышел на крыльцо.
Солнце еще не всходило, и небо на востоке было сиренево-розовым. В парке и по двору двигались молчаливые люди, скребя и подметая и без того чистые дорожки и лужайки. От церкви плыл какой-то глухой, будто придушенный колокольный звон.
Басаргин взглянул в сторону аракчеевского дворца. Все окна его были плотно закрыты тяжелыми ставнями. У главного крыльца застыли часовые.
Розовость зари отражалась на их обнаженных шашках и вызолоченных буквах надписи: «Без лести предан», — девизе аракчеевского герба, прибитого над главным входом во дворец.
У правой его пристройки мелькал в окне белый поварской колпак. Басаргин вспомнил, как по приезде в Грузино Аракчеев обратился к царю: «Грузинский хозяин испрашивает позволенья кормить своего благодетеля в Грузине своею кухней».
Царь наклонил голову, и вся челядь «своей кухни» затрепетала. Знала, чего стоит угодить свирепому, скупому Аракчееву, когда он хочет похвастаться своим угощением перед высоким гостем.
Басаргин пробовал заговаривать с людьми, проходящими мимо крыльца, но они пугливо шарахались от него, указывая глазами на дворец. Только камердинер Киселева, узнав в Басаргине свитского офицера и поздоровавшись с ним, проговорил:
— И все вот так же — молчком, будто воды в рот набрали. Опасаются потревожить графа. И так злобен, а не выспится — лютей зверя, сказывают, становится. — Он ближе подошел к Басаргину и, понизив голос, продолжал: — Да кабы только графа, а то полюбовницы его, Настасьи Минкиной, тутошний народ пуще графа страшится. А и зла же, говорят, подлая! В прошлую пятницу опять двух девок насмерть запорола. Вот и нынче в черном флигеле всю ночь, слышно, людей истязали. И как только они, сердешные, терпят… — Камердинер сокрушенно вздохнул и замолчал.
Басаргин хмуро глядел в отдаленный угол двора, где стоял выкрашенный в темную краску небольшой флигель с крошечными под самой крышей отверстиями вместо окон.
На дверях этой домашней тюрьмы, которой неизвестно почему было дано название «едикуль», висел тяжелый замок. Огромный, похожий на матерого волка, пес лежал на цепи у самого порога едикуля.
Басаргин спустился с крыльца и вышел за ворота. Часовые, не сменившегося ночного караула провожали его усталыми глазами, покуда он не свернул к реке.
Волхов, еще охваченный ночным туманом, дремотно катил свои воды.
Вдоль его крутого высокого берега, как солдаты встрою, фасадом к реке вытянулись по прямой линии поселенческие избы. Каждая в два этажа, около каждой изгородь игрушечного садика с чахоточными деревцами и гладко выстроганными скамейками. Над каждой — серый столбик дыма. И над всеми — уныние и тишина.
На лугу с вытоптанной травой шло ученье. Люди, подтянутые, вылощенные, трепетно-напряженные, готовились к царскому смотру.
Аракчеев собирался щегольнуть перед царем разводом с церемонией.
Офицеры, проходя по фронту, выравнивали солдатские шеренги, грубо толкая людей в грудь и живот. Зуботычины и пощечины звучали приглушенно. Без обычного раската раздавалась и обычная крепкая ругань.
С минуты на минуту могло появиться высокое начальство.
— Ты что рожи строишь! — вдруг бросился к рядовому Аксенову подпоручик Ефимов, прозванный солдатами Кулаковым, и полновесная пощечина едва не свалила с ног щуплого Аксенова.
— Виноват, вашбродь, муха ужалила, щека-то и дернулась…
— Чурбан нечесаный, скотина! — выругался Ефимов. — Я тебе покажу «муху»! Обтесать болвана! — приказал он старшому.
— Слушаюсь, вашбродь, — последовал ответ.
Аксенов поднял свалившийся от удара кивер и, отряхнув, надел. Правая щека его багровела.
Ефимов сделал несколько шагов и снова остановился.
— Ну, как стоите, черти бесхвостые! — разом тряхнул он за плечи двух круглолицых парней. — Гренадеры вы аль бабы старые? Сколько раз вам сказывал: должно всеми средствиями подаваться вперед, а отнюдь на оные не упираться. Да не наваливайтесь на левый бок, скоты!
И, проходя дальше, оправлял на солдатах амуницию и кивера. При этом старался захватить вместе с сукном мундира и больно ущипнуть руку, грудь или плечо стоящих перед ним людей.
В церкви, куда Басаргин зашел на обратном пути, уже все было готово к службе. Ждали выхода Аракчеева и его «высокого» гостя. Молодой священник с красными пятнами на худом лице все поглядывал через открытую дверь на графский дворец.
Басаргин осматривал церковь. На одной из ее стен висел бронзовый медальон императора Павла I, а под ним бронзовый полукруг надписи: «И прах мой у ног твоих». Под надписью на полу лежала массивная могильная плита со скорбным ангелом у изголовья. Она была окружена бронзовой, редкой работы оградой.
— Кто здесь похоронен? — спросил Басаргин у священника.
Тот неопределенно усмехнулся.
— Извольте прочесть, там написано.
И снова выглянул в дверь.
Басаргин наклонился к плите.
«Здесь погребено тело новгородского дворянина Алексея Андреевича Аракчеева», — прочитал он и с изумлением обернулся к священнику.
Тот, не дожидаясь вопроса, сказал с такою же усмешкой:
— Граф для себя приготовил могилку.
В это время послышался шум на главной аллее.
Священник быстро отошел от Басаргина и сделал знак дьякону. Тот вышел на амвон и, как только царь с Аракчеевым показался в дверях церкви, зычно провозгласил:
— Благослови, владыко!
Молящихся было немного. Кроме царя, Киселева, Басаргина и приехавшего прямо из Петербурга графа Кочубея, еще несколько свитских офицеров.
Царь, картинно отставив правую ногу, истово крестился, устремив глаза прямо перед собой. Аракчеев же все время вертел головой по сторонам, наблюдая присутствующих. Несколько раз его мутно-липкий взгляд останавливался на Басаргине.
«Что ему надо от меня?» — удивлялся тот.
Как только служба кончилась, Аракчеев предложил царю прогуляться по парку. Ему хотелось показать Александру грациозный павильон, выстроенный в том месте, где царь в свой прошлый визит в Грузино завтракал на открытой лужайке.
Строить павильон выписали смуглого, с целой гривой черных волос итальянца.
Строил он павильон сперва на белой плотной бумаге то углем, то чернилами. Потом целыми днями от зари до зари суетился среди сотни мужиков. А те, в мокрых от пота на спине и плечах рубахах, копали землю, месили глину, рубили лес и носили мраморные плиты. Итальянец жестикулировал, выкрикивая певучие слова, а мужики гнули спины, подымали и опускали ломы, топоры, молотки и при этом… итальянец никак не мог понять: не то пели, не то стонали.