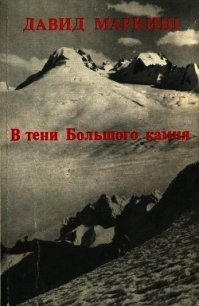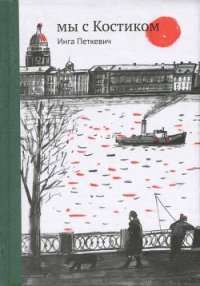Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
Но Лубянка, провонявшая выхлопными газами — еще даже и не смерть. Лубянка — это липкий пот страха, расходившиеся нервы, соломенный ком в сухом горле. Вот она, Лубянка, через дорогу. Вот этот угловой подъезд.
Слева от подъезда в стене помещались неприметные железные ворота, одностворчатые, с наблюдательным глазком посреди створки. Вадим, шагнувший уже было к подъезду, услышал вдруг хриплый визг тормозов за спиной, и нечто рыжее, похожее на большой футбольный мяч, высоко подброшенное бампером черной «Волги», ударилось о стену и мешком упало на тротуар рядом со ступеньками подъезда. Тем временем электрические ворота, пропустив «Волгу» во двор, быстро и бесшумно затворились за нею.
Рыжий мешок, валявшийся на тротуаре, оказался ирландским сеттером. Хозяин издыхающей собаки сидел рядом с ней на корточках, держа в руках конец поводка, пристегнутого к ошейнику. Толпа, вмиг сбившаяся, глазела на происшествие.
— Собака-то дорогая, — доносилось из толпы.
— Хозяин цел — и то слава Богу.
— Разве можно так ездить, в центре города!
— А ты молчи. Они сами знают, как им ездить.
— Он ее за цепь держал — так прямо из руки вырвало.
Сеттер еще дышал. Протиснувшись вперед, Вадим глядел на агонию собаки. Он, кажется, впервые в жизни видел, как умирает животное. В широком окне между воротами и подъездом сдвинулась кремовая занавеска, к стеклу придвинулись лица: из комнаты глядели на толпу и на собаку и переговаривались, но слов нельзя было ни услышать, ни угадать. Потом занавеску задернули, а за спиной толпы появилась тройка милиционеров.
— Расходитесь, граждане, расходитесь! — деловито указывали милиционеры. — Ну, чего не видали! А ну, проходите!
Но толпа не расходилась, а только сбивалась плотней, не давая милиционерам протиснуться к сеттеру и его хозяину.
— Номер-то машины заметил кто? — спрашивали в толпе.
— Захотят — найдут.
— Как же, захотят они! Разбежался!
Вадим стоял, глядел пристально на немигающий, еще живой глаз сеттера. Вот сейчас он закроется, и собака умрет. Или нет, не закроется? А только набежит эта самая стеклянистая дымка, о которой столько написано? Или это только у человека — дымка? Кто знает… Как это жутко — умирать тут, на вонючем асфальте, около тюремных ворот с глазком. Ведь это и его, Вадима, могла стукнуть черная «Волга», и он бы тогда лежал сейчас здесь, у стены, вместо собаки, и глядел бы на ноги толпы и ждал, когда набежит эта дымка и все кончится. Собаку хозяин гладит по голове, а его, Вадима, некому было бы и погладить. Смерть у тюремных ворот, у ног толпы, в бензиновой вони. Жутко! А душа все равно освободится, и уйдет свечой в небо, и соединится с самою собой, со своей первоосновой, как опавший лист вернется к ветви и стволу для нового расцвета — вопреки всем этим придуманным законам природы. Остров душ там, вверху, облако душ. Жалко, что оно бесплотно, невидимо, неподвижно. Вот если б было оно цвета павлиньего пера и можно было бы видеть его отсюда, снизу — как оно покойно и медленно движется в океане Вселенной, в море земного неба! Впрочем, может быть, все наоборот. Может, Земля — бурозеленый плавучий остров в прозрачном насквозь океане душ.
Толпа все не расходилась. Любопытные бежали к ней с Охотного ряда и от Центральных касс Аэрофлота. Какие-то шустрые иностранцы, поднявшись на ступени Детского мира, щелкали затворами фотоаппаратов: похоже было, что толпа собиралась штурмовать лубянские ворота.
Ворота бесшумно отворились на треть, и из щели показался солдат охраны с пожарным багром в руках. Опасливо поглядывая на толпу из-под лакированного козырька фуражки, солдат закогтил собаку багром и поволок ее в ворота. Хозяин, не выпускавший поводка, шагнул следом за своим сеттером.
— Ты куда! — вскинув острый ребячий подбородок, закричал солдат. — Нельзя сюда! А ну!
Хозяин отпустил поводок, и он, извиваясь, вполз в ворота. И ворота затворились бесшумно.
Толпа, как бы опомнившись, расходилась молча и быстро.
Вадим, потянув тяжелую дверь подъезда, вошел и остановился перед часовым.
— Соловьев, — сказал Вадим немигающему часовому. — Вызывали меня сюда…
Кабинет был обставлен канцелярской дубовой мебелью: тяжелый, крытый зеленым в давних чернильных пятнах сукном стол, строгие массивные стулья, книжный шкаф с обязательной Большой советской энциклопедией и классиками марксизма-ленинизма. В одном углу стояла круглая рогатая вешалка, в другом — высокие стоячие часы-маятник. Со стены глядел Дзержинский — грозно и Брежнев — отчужденно и сыто. Окно кабинета затянуто было кремовой шелковой занавеской.
— Присаживайтесь, — сказал удобно устроившийся за столом громоздкий мужчина за пятьдесят, с аккуратно зачесанными наверх редкими волосами. — Что ж это вы опаздываете? А?
— Да там собаку задавило, — промямлил Вадим. — Внизу.
— Какую еще собаку! — Зачес досадливо взмахнул широкой белой ладонью. — Вы сами-то понимаете, что вы несете?
Зачес сурово глядел на Вадима, словно бы ожидая дальнейших разъяснений насчет собаки, послужившей причиной опоздания. Вадим молчал, уставившись на зеленое сукно стола. Ему хотелось, чтобы Зачес скорее вызвал солдат, — или кого они там вызывают в таких случаях, — и те повели бы его, Вадима, в подвал, в камеру. Говорят, здесь сколько подземных этажей, на Лубянке — шесть, семь… Но Зачес молчал, как будто ему вовсе нечего было сказать.
— Зачем вы меня вызвали? — спросил, наконец, Вадим.
— А то вы сами не знаете! — ухмыльнулся Зачес. — Ну, подумайте, подумайте…
Вадим послушно подумал, пожал плечами:
— Я, правда, не знаю.
— Ну, как же так — не знаете! — не поверил Зачес. — Расскажите-ка о себе: как работается? Написали что-нибудь новенькое? Я, знаете ли, читал эту вашу вещицу о мощах. Интересная вещица.
Вадим продолжал разглядывать сукно. Ему вдруг стало жарко, он вспотел.
— Что ж это вы молчите? — продолжал напирать Зачес. — Мы ведь с вами тут не в молчанку играем, у нас дел много… Говорите!
Вадим вдруг почувствовал мерзкую неловкость оттого, что вот он опоздал, а теперь отнимает время у этого загруженного какими-то разбойными делами начальника, и он сейчас, наверно, начнет орать и стучать кулаками по столу.
— Да я пишу… — выдавил из себя Вадим. — Так, в машинке все… Незаконченное…
Ему было противно и дико говорить с Зачесом о своей работе, а молчать, не отвечать было страшно.
— Да, не с теми людьми вы связались, молодой человек, — без всякого перехода сказал Зачес. — Расскажите-ка о своих друзьях!
— Нет у меня друзей, — подавшись назад, сказал Вадим Соловьев.
— Как же нет! — снова ухмыльнулся Зачес. — А у меня вот тут записано, что есть. — Он вытянул из ящика стола лист бумаги и поднес его к лицу. — Вот, вот… Кто к вам только не приходит!
— Приходить приходят, — неохотно согласился Вадим. — Так это знакомые… — Он хотел было добавить «и незнакомые тоже» — но передумал, промолчал: Зачес, пожалуй, не так поймет, опять прицепится, а потом разматывай.
— С друзьями тоже сначала знакомятся, — назидательно заметил Зачес, — а потом уже знакомство становится дружбой… Просто знакомому человеку ведь душу не откроешь, а?
Почуяв подвох, Вадим на этот раз промолчал, вздохнул только, выражая тем самым как бы согласие с Зачесом, но согласие косвенное, ни к чему не обязывающее.
— Не хотите, значит, говорить, — Зачес ладонью подвел черту, а потом, подняв руку, взглянул на часы. — Ну, ладно, дело ваше… Когда и где вы в последний раз встречались с Голубем?
— С каким Голубем? — переспросил Вадим Соловьев. — Фамилия, вроде, знакомая…
— Ну, довольно! — Зачес несильно шлепнул ладонью по столу. — Хватит дурака валять! Голубя он не знает!
— Это поэт, что ли? — искренне пытался вспомнить Вадим. — Миша Голубь? Да я с ним еле знаком.
— Не поэт, а тунеядец, — строго поправил Зачес. — Он у вас ночевал. Не отрицаете?
— Да у меня много людей ночует… — сказал Вадим.