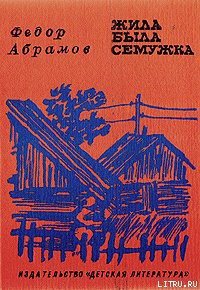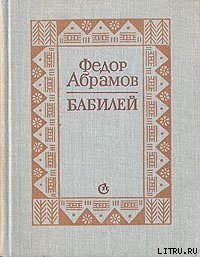Деревянные кони - Абрамов Федор Александрович (лучшие книги читать онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.
Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый.
Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.
— А раньше их поболе у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, — заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.
Старуха который раз за эти сутки удивила меня.
Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяный пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.
— Куда, бабушка? Не опять в лес? — полюбопытствовал я.
— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, — по-старинному выразилась Милентьевна.
— А пестерь зачем?
— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я на мало в этот раз отпущена, на неделю.
Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор — она собиралась на работу, — тут не выдержала:
— Сказывай — на мало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?
Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.
Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня.
Ибо не успели мы поравняться с конюшней, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в ноле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.
Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь старыми костями, так это Прохор — один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.
Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.
— Тета, тета! — закричал он, подъезжая. — Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?
Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу, к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.
Я вернулся домой.
Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами — у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — когда еще выдастся такой ладный денек.
А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.
С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было. Целый крестьянский музей!
Рогатое мотовило, кроена — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашеные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.
— Надо бы выбросить все это барахло, — сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, — ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается — мои родители кормились от этого…
С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, — я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.
Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.
И так все, — что бы я ни взял, на что бы ни взглянули старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная, чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.
Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.
Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и Андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.
На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.
Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.
— Не должна бы она сегодня далеко-то убрести, — говорила Евгения. — Не маленький ребенок.
Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полок.
Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.
Весной, в половодье, бани топит, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирающих льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.
Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?
Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся.
— А затем, чтобы веселее жить. Весной, знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-еи-ей! Из всех ружьев.
На следы дроби в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьевне ее муж.
Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было и как там старая Милентьевна? Все ли с ней в порядке?
Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.
— Не знаю, не знаю, что и подумать, — сокрушенно качала она головой. — Это уж она на Богатку уперлась не иначе. Вот какая вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лсшачить в лесу.
Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:
— Учесала, учесала — больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.
Я знал про Богатку — это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слыхал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.