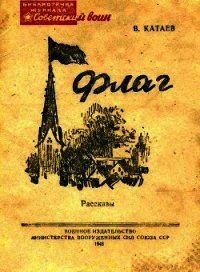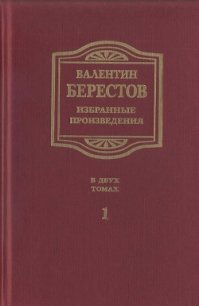Коридоры смерти. Рассказы - Ерашов Валентин Петрович (онлайн книга без .txt) 📗
Тут его и застигла, неожиданно возвратясь — чуяла неладное, — Татьяна.
Неделю потом она раскладывала кусочки, склеивала все четыре экземпляра, бегала к переплетчику, одела в коленкор — сейчас темно-синие книги томятся на дне чемодана. Пускай томятся. Ежели переплести все насочиненное-ненапечатанное — наберется полтора десятка томов. Полное собрание… Кому нужны? Да — никому. Помрет — Татьяна станет хранить, уйдет и она — выкинут на помойку…
Машинка скрипит кареткой, буква «м» застревает, приходится поправлять клавишу, палец в краске от ленты…
На пороге в облаке пара, точно Саваоф, появляется шустрик-управдом.
— На работу собираетесь, товарищ писатель? — вопрошает он.
— На службу, — отвечает Федосей Прокофьевич угрюмо. — Работа у меня здесь, за столом.
— И работайте на здоровьичко, — ласково журчит шустрик. — Времени теперь прибавится. Вот со служебной квартиркой как… Освобождать придется.
Протягивает листок.
«Как не соответствующего занимаемой должности, за халатное отношение к служебным обязанностям уволить с выплатой выходного пособия младшего дворника гр-на…»
— Окончание на обороте. С месткомом согласовано, — подсказывает шустрик, но Федосей Прокофьевич не читает. Скидывает кожушок, швыряет на пол голицы.
— Нам писатели не требуются, нам дворники нужны, — сообщает шустрик. — А сегодня извольте отработать. Жалованье пока идет. До завтрева…
— Катись-ка ты, — говорит Федосей Прокофьевич.
Очень обстоятельно разъясняет.
— Пя-сатели. Художники слова, — подытоживает бывшее начальство, прослушав с интересом. Вздыхает почти восторженно. — А квартирку придется освободить. В двухнедельный срок.
— Пш-шел вон, — приказывает Федосей Прокофьевич.
— Ауфвидерзейн, — говорит шустрик. Добавляет с порога! — Аверьянычу, дружку своему, поклонись, может, уступит местечко в туалете. Строчить там можно без отрыва от основного производства: тепло, светло и мухи не кусают. И квартирку сохраним в таком разе, как полезному обществу элементу…
Федосей Прокофьевич хватается за метлу, шустрик испаряется. Метла и лопата летят ему вслед.
Писатели не требуются — дворники нужны…
Тетрадочный листок с приказом валяется на столе. Порвать, не расстраивать с ходу Танюшку? Но что изменится до завтра, все равно ведь не скроешь.
Медленно идет по комнате, выволакивает отовсюду — со шкафа, с полки, из-под кровати — связки рукописей, валит на пол.
Потолок сводчат, и для чего-то посередке загнут вопросительным знаком крюк. И бельевая веревка тянется через кухню.
Растапливает печь, хотя еще не выстыло за день.
Татьяна задержалась — наверное, ищет денег на завтра, получка лишь к вечеру. Занять — тоже проблема, дают неохотно, и не только ей, жене бывшего писателя, а и любому: время такое, сегодня человек жив-здоров и при деле, а через сутки — бог знает… Если Татьяна не вернулась к пяти, как обещала, значит, придет в семь, когда он оканчивает вечернюю приборку. Что ж, к лучшему, если не пришла…
Опрокинутым вопросительным знаком торчит крюк в потолке.
Подтаскивает, ногой подгребает рукописи к печке. Страницы сыплются. Лопнула бечевка, листки желтые, странно, с коих времен черновиков не хранит, а они — вот… Милая моя Танюшка, прости меня…
Усаживается на корточки спиной к двери, шурует кочергой, дрова разгораются плохо, сует пук бумаги…
На привычный скрип двери не обращает внимания. Не слышит просто.
— Родной, — говорит сзади Татьяна. — Я прочитала там, у ворот, на доске… Я прочитала приказ…
— Ну ты мне скажи, — отвечает он, так и не оборачиваясь, деловито спрашивает и буднично, будто советуется, пойти ли в кино. — Ты скажи, Татьяна, как жить дальше? Я тебя спрашиваю — как нам жить? И другим?
Она молчит. Открывает облезлую сумку, похожую на большой отощалый кошелек. Ставит две четвертинки, потные от холода.
— Выпей, милый. Ты выпей лучше…
1968 г.
КОРИДОРЫ СМЕРТИ
Историко-фантастическая хроника
Это повествование построено и на доступных автору документах, и на опубликованных материалах, и на собственных воспоминаниях, и на рассказах очевидцев, и частично на ходивших в ту пору и впоследствии разговорах. Описанное в хронике — было или — могло быть. Домысел автора — в рамках и пределах допустимого законами литературы.
Главное фантастическое допущение: Сталин завершил жизнь не 5 марта 1953 года, как официально оповещено, а немного позже; один из вариантов заглавия хроники был: «Сталин умер завтра». Используя этот прием, автор и строит повествование, особенно в заключительных главах, ибо события, составляющие ядро и суть произведения, были действительно запланированы и, вероятнее всего, осуществились бы, не помешай тому кончина Вождя.
Основные исторические фигуры реальны. Те, кому предстояло быть исполнителями, — обозначены условно, по роду занятий. Фамилии жертв — из уважения к их страданиям и памяти — изменены. В хронику введена семья, имеющая реальный прототип. Некоторые статисты кровавого спектакля оставлены анонимными.
Эпилог
Берию вели на расстрел.
Он шел по бесконечным, гулким, то прямым, то изломанным коридорам, пронзительно освещенным голыми, жесткими лампами. Резкие тени скользили впереди, отставали, двоились. Порой капитан справа наступал сапогами на его, Берии, тень, и Берия чуть отклонялся, оберегая свой распластанный на полу силуэт от ненавистного сапога. Тогда офицер слева коротко дергал головой — приходилось шагать прямо.
Направляющим конвоировал майор, и еще один топал позади, Берия чувствовал его дыхание и слышал размеренную поступь всех четверых. Собственных шагов не различал, хотя звуки громко взлетали под низкие своды.
Ему не требовалось глядеть, куда поворачивает направляющий. Берия слишком хорошо знал подземелья Лубянки, он знал каждый изгиб и любое спрямление коридоров, бесчисленные переходы, лесенки, пороги. Знал и ниши, куда полагалось — лицом к стене — втискиваться заключенному, если навстречу вели другого. От конвойных требовалось непрерывно прищелкивать языком или постукивать ключами о пряжку, предупреждая встречных, такой порядок придумали, кажется, еще при Николае Втором. Но сейчас офицеры не соблюдали этого правила: заведомо никто не мог оказаться на их пути.
Берию вели на расстрел.
Он понимал: никакое чудо не спасет его.
Он слишком хорошо знал, как приговоренные до последнего мгновения надеются на чудо, и привык с насмешкою думать об их надеждах. Человек ума трезвого, холодного и расчетливого, Берия не тешил себя иллюзиями: через несколько минут его шлепнут.
Время, совсем недавнее, до предела заполнялось работой — так он обозначал жестокое, нечеловеческое дело, коему отдал много лет кровавой, нечеловеческой жизни. Однако же удавалось выкроить время и на чтение. Из книг о прошлом, из записей подслушанных разговоров в камерах смертников Берия знал: перед казнью почти все думают и говорят о женах, о детях, о родителях, пишут им письма, остающиеся неотправленными в тюремных канцеляриях.
Берия думал не о том, семьи у него как бы не существовало.
То есть, конечно, она была, но Берия давно почти не встречался с женою и взрослым сыном, проводя ночи в угрюмом, крикливо обставленном особняке, где стол всегда ожидал его накрытым, постель — приготовленной, женщины — пронизанными то еле скрываемым страхом, то извращенным любопытством, то затаенным, однако очевидным отвращением, а порой и нетерпеливым желанием.
Берия думал в последние минуты не о семье.
Он думал — о Сталине.
Думал с привычной ненавистью к человеку, водворенному теперь на самое священное, как твердила пропаганда, место. Берия знал — он знал все высшие тайны, — недолго тому, набальзамированному, возлежать в хрустальном саркофаге Мавзолея, но и это не смиряло ненависть к мертвому. Берия так и обозначил его сейчас — мертвец. Себя он еще числил в живых.