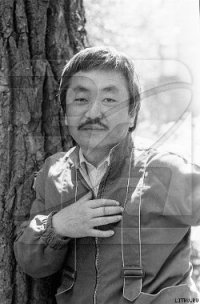Антология русского советского рассказа (30-е годы) - Горький Максим (книги бесплатно без регистрации txt, fb2) 📗
Составлялся волейбол вечером, после ужина, когда заходило солнце там, за верхушками гор, а здесь была уже зеленая прохлада и море сплошь стало оранжевым.
Фокин приоделся, пригладил свои короткие темные волосы, аккуратно завязал шнурки на туфлях — хотел пойти на почту сдать заказное, так как почта уходила отсюда рано утром, но его остановила Шемаева с черным мячом в руках и сказала значительно:
— Куда это?.. У нас не хватает одного, и как раз тебя.
— Мне некогда, нет! Письмо сдавать!
— Завтра сдашь!.. Подумаешь, дело какое: письмо… Становись!
И она взяла его за руку.
Он искоса глянул на ее слегка вздернутый нос и твердые губы, пожал левым плечом и стал играть в волейбол. И никогда раньше не играл он настолько удачно, как в этот вечер.
А когда совсем стемнело и пришлось бросить игру, Фокин тихо сказал Шемаевой:
— Соня! Третий раз я тебе уступаю сегодня… Когда это было раньше?
— Что из того, что никогда не было? — спросила Соня так же тихо.
— А почему это? Объясни, потому что я, признаться…
— Ты сам должен знать почему, — перебила его Соня и пошла от него, и у него сладко заныло сразу все тело от ее легкой походки, и белевшего в темноте ее платья, и шуршащих по гравию дорожки ее сандалий.
К ночи пошел дождь. В парке было совсем темно. В доме отдыха укладывались спать.
Фокин и Соня Шемаева, крепко прижавшись друг к другу, сидели на одной из широких скамеек под платанами.
Они не спорили теперь ни о чем, они даже и шепотом не говорили ни о чем друг с другом.
Под облаком плотных, как из кожи вырезанных, платановых листьев было сухо, но дождь шумно пробивался сквозь листья к земле, упорно не желая оставить сухим ни одного на ней листа, и они обоими своими телами, как одним, понимали теперь, что вода действительно жива и подлинный смысл ее в том, чтобы оживлять землю.
И в эти долгие-долгие и значительные по содержанию, при всей своей немоте, минуты под платанами, видевшими бесплодную сорокалетнюю жизнь двух других людей, бесполезно думавших над сутью вопроса о зарождении жизни, совершилось такое естественное и простое безмолвное зарождение новой жизни.
1934
Лидия Сейфуллина
Таня
Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:
— Ленин — основоположник марксизма.
Александр Андреевич прервал ее:
— Прежде, чем сказать, люди думают. А ты?
Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:
— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.
Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:
— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!
Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтобы слезы не выкатились из глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она пионерка? Если бы ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы небось озверел!
По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц, ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:
«Если взрослые так будут, то в конце концов можно и умереть… Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Если «взять», то есть самоубийство, то, конечно, скажут, никаких убеждений. Есенинщина, скажут, заела… «Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть», — мысленно пропела Таня.
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})У нее защипало в горле, и слез проглотить уже не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.
«Ну, «Письмо к матери» — вообще упадническое… Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это? «Мр-а-а-ке часто видится одно и то ж…» Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатины… Папа стоит у гроба… Нет, если нормально, то не все пожалеют. А вот умри я на посту… Вот случилось нападение на Москву…»
Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись. Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:
«…даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас она училась, у нас».
Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, Таниным, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.
«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую… Да, побег был исключительно смелый…»
Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную, героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страданье за утверждение Таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном Танином существовании, но общеизвестные враги «своих» — капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтанье любовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы его легли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:
«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».
Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:
— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!
Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила.
Она только мстительно подумала:
«Горько тебе будет. Очень горько!»
Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки… В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила, как надо:
— В нашей организации мы руки не подаем.
Лицо Надежды Константиновны просветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:
«Надо было руку пожать. Не из подхалимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».
Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:
— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?
— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!
— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!