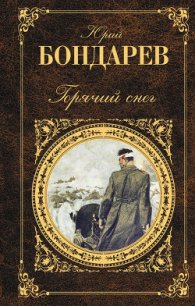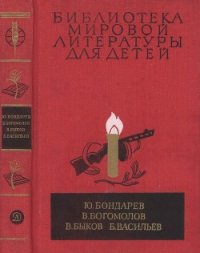Горячий снег - Бондарев Юрий Васильевич (читаемые книги читать TXT) 📗
— Зоя, Зоя! Сюда, сюда! Заряжай! Я — к панораме, ты — заряжай! Прошу тебя!.. Зоя…
Валики прицела были жирно-скользкими, влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы, скользили в руках маховики механизмов — на всем была разбрызгана кровь Касымова, но Кузнецов лишь мельком подумал об этом — черные ниточки перекрестия сдвинулись вверх, вниз, вбок; и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на ребрах траков, такую отчетливо близкую, такую беспощадно-неуклонную, что, казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел, задевала, корябала зрачок. Горячий пот застилал глаза — и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане.
— Зоя, заряжай!..
— Я не могу… Я сейчас. Я только… оттащу…
— Заряжай, я тебе говорю! Снаряд!.. Снаряд!..
И он обернулся от прицела в бессилии: она оттаскивала от колеса орудия напрягшееся тело Касымова, положила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы еще ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова.
— Заряжай, я тебе говорю! Слышишь ты? Снаряд, снаряд!.. Из ящика! Снаряд!..
— Да, да, лейтенант!..
Она, покачиваясь, шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд и, когда неловко толкнула его в открытый казенник и затвор защелкнулся, упада на колени, зажмурилась.
А он не видел всего этого — огромная, вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке, высокий рев танковых моторов, давя, прижимал его к орудию, горячо и душно входил в грудь, чугунно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали колени, упершиеся в бугристую землю, может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в пятидесяти метрах от орудия.
А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку — неумолимое, огромное и лязгающее заслоняло весь мир.
Он нажал на спуск и не услышал танковых выстрелов в упор.
Глава двенадцатая
Со страшной силой Кузнецова ударило грудью обо что-то железное, и с замутненным сознанием, со звоном в голове он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь, и хотел понять, что так больно ударило его в грудь и что это так знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Его тянуло на тошноту, но не выташнивало — и от этого ощущения мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив, и тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым, и увидел, как в пелене, красные пятна на своей измазанной землей кисти, поджатой к самому лицу. «Это кровь? Моя? Я ранен?»
— Лейтенант!.. Миленький! Лейтенант!.. Что с тобой?..
Выплевывая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним.
«Почему шел дождь и я стоял под липой? — подумал он, вспоминая. — Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве?.. Что мне померещилось?»
Он лежал грудью на открытом снарядном ящике между станинами, на два метра откинутый взрывной волной от щита орудия. Правая сторона щита разорванно торчала, с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним в двадцати метрах было объято тихим, но набиравшим силу пожаром то лязгавшее, огромное, железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир.
Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, опущенный ствол орудия; мазутный дым длинными, извивающимися щупальцами вытекал из него на снег.
В первом танке с визжащими толчками рвались снаряды, сотрясало башню, гусеницы, скрежеща, подрагивали, и отвратительный, сладковатый запах жареного мяса, смешанный с запахом горевшего масла, распространялся в воздухе.
«Это я подбил два танка? — тупо подумал Кузнецов, задыхаясь от этого тошнотворного запаха и соображая, как все было. — Когда меня ранило? Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом…»
— Зоя! — позвал он, и его опять затошнило.
— Лейтенант… миленький!
Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, расстегивала пуговицы на груди, видимо, оглушенная, с закрытыми глазами. Аккуратной белой шапки не было, волосы, забитые снегом, рассыпались по плечам, по лицу, и она ловила их зубами, прикусывала их, а зубы белели.
— Зоя! — повторил он шепотом и сделал попытку подняться, оторвать непослушное тело от снарядного ящика, от стальных головок бронебойных гранат, давивших ему в грудь, и не мог этого сделать.
Движением головы она откинула волосы, снизу вверх посмотрела на него с преодолением страдания и боли и отвернулась. Сквозь тягучий звон в ушах он не расслышал звук ее голоса, только заметил, что взгляд ее был направлен на тихо скребущую ногтями землю руку Касымова, вытянутую из-за колеса орудия.
И он увидел темный бугор неподвижного тела, ткнувшегося головой в край бруствера. Касымов уже лежал лицом вниз, ватник его был посечен осколками, кучки выброшенной разрывом земли, порохового снега чернели на его спине, валенки подвернуты носками внутрь. Но жила еще одна рука. И Кузнецов видел эти скребущие пальцы.
Глотая солоноватую влагу, заполнявшую рот, он хотел крикнуть Зое, что снаряд разорвался на бруствере, их обоих контузило, оглушило, а Касымов умирает и надо отнести его в нишу позади орудия, немедленно отнести, скорее отнести. Он не понимал, почему им нужно сделать это скорее и почему Зоя медлит, когда нельзя медлить ни секунды, потому что их двое осталось здесь…
— Зоя, — шепотом позвал он и, сплюнув кровь, отдышавшись, сполз со снарядного ящика под бруствер, взял ее двумя руками за плечи с надеждой и бессилием. — Зоя! Тебя оглушило? Зоя, слышишь? Ты ранена?.. Зоя!..
Ее плечи не сопротивлялись под его руками, сопротивлялись ее глаза, ее сомкнутые губы под прядями волос; она вдруг обратной стороной рукавицы вытерла ему подбородок, и он различил кровь на этой рукавице.
— Это ерунда… меня оглушило, ударило о ящик! — крикнул он ей в лицо. — Зоя, посмотри, что с Касымовым! Слышишь? Быстро! Мне — к орудию?.. Кажется, Касымова…
Он с трудом встал, шатаясь от мутного головокружения, и шагнул к станинам, готовый броситься к ящику со снарядами, к прицелу, но тут увидел, как Зоя вдоль бруствера поползла к колесу орудия, и дошел ее голос:
— Лейтенант, миленький, помоги!..
Они вдвоем оттащили Касымова в нишу для снарядов, и Зоя, стоя на коленях, наклонясь, стала ощупывать руками его иссеченную на груди телогрейку, грязные повязки на животе, набухшие бурой влагой, разорванные осколками.
Опустив руки, наконец выпрямила спину, глядя на Касымова все понявшими глазами. И Кузнецов понял: Касымов был убит осколками в грудь, видимо, в тот момент, когда он еще хотел подняться, когда последний снаряд разорвался на бруствере…
Сейчас под головой Касымова лежал снарядный ящик, и юношеское, безусое лицо его, недавно живое, смуглое, ставшее мертвенно-белым, истонченным жуткой красотой смерти, удивленно смотрело влажно-вишневыми полуоткрытыми глазами на свою грудь, на разорванную в клочья, иссеченную телогрейку, точно и после смерти не постиг, как же это убило его и почему он так и не смог встать к прицелу. В этом невидящем прищуре Касымова было тихое любопытство к непрожитой своей жизни на этой земле и вместе спокойная тайна смерти, в которую его опрокинула раскаленная боль осколков, ударившая ему в грудь в тот самый момент, когда он пытался подняться к прицелу.
«Природа у нас хороший», — вспомнил Кузнецов и в дохнувшем ледяном запахе смерти испытал какое-то необъяснимое чувство неподчиненности самому себе. Мысль о том, что его тоже могло сейчас убить и он потерял бы способность двигаться, а только лежал бы в беспомощности, в неподвижности, ничего не видя, ничего не слыша уже, вызывала в нем ненависть к возможному этому бессилию. И вид двух горящих танков за бруствером, перекрещенные по всей степи косяки огня, сплошная, подвижная, кипящая масса дыма, где возникали и пропадали скорпионно-желтые бока танков перед балкой, горячие толчки накаленного воздуха, которые он чувствовал лицом, гром боя в заложенных ушах — все разжигало в нем не подчиненную разуму неистовую злость, одержимость разрушения, нетерпеливую, отчаянную, похожую на бред, незнакомую ему раньше.