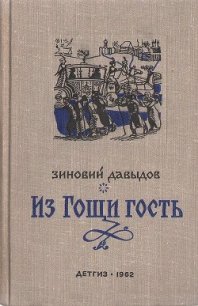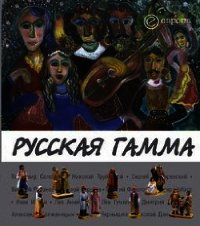Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (книги онлайн без регистрации полностью .TXT) 📗
«Среди вас, русских, слишком много претендентов на первородство», — сказала в тот раз Джоан, глядя на этот стриптиз волосатых. Я сразу оценил эту фразу. Я был единственным, кто понял, что она намекает на Иакова, выдавшего себя за волосатого Исава. Никто поэтому, кроме нее, не понял и моей ответной реплики: «Я предпочитаю безродный космополитизм советской избранности». Мы переглянулись с Джоан понимающе. В этот момент Джоан поднялась, потому что приехало такси, и я воспользовался поводом ретироваться. С того прогона в такси через весь город и началось наше общение с Джоан. Я пытался объяснить ей свое отношение к Сильве. Что такое сплетня, как не свидетельство человеческой скромности: человек стесняется говорить про себя и поэтому сплетничает про других. Если эта сплетня интригует собеседника, с его стороны это проявление великодушия, сочувствия, готовности к сопереживанию: готовности принять чужую тему, сплетню про полузнакомого человека как нечто, с чем можно отождествиться, сопереживая рассказчику, сплетнику. Собственно, когда герой сплетни едва известен слушателю, это уже не сплетня, а литература. Это как облатка, подменяющая тело Господне. «Transubstantiation», — уточняла она, и наш разговор уходил в шарлатанскую метафизику подтекста, где моя советская власть и ее католицизм мешались воедино.
Одного я, по крайней мере, добился своей выходкой под Новый год. На следующий же день Сильва устроила мне скандал по телефону за то, что я ей устроил скандал на людях, ушел не попрощавшись, беспардонно хлопнув дверью, и вообще. Я сказал, что я дверью не хлопал. Последний раз я хлопнул дверью, уходя из России, и все равно моего ухода никто не заметил. «Мне просто противно было глядеть на твои любовные шашни с несостоявшимся российским прошлым», — сказал я, витиевато намекая на ее обожаемого московского визитера. «А мне, ты думаешь, не противно было глядеть на твои шашни с фиктивным английским настоящим в виде этой фальшивой мымры Джоан?» — сказала она, не прибегая к витиеватым эвфуизмам. «Задело-таки?» — злорадно подумал я. «Несостоявшееся прошлое, фиктивное настоящее — это все твои фальшивые новые идеи, ты заметил? — продолжала она. — Твои фикции. Ты придумываешь мотивировки совершенно на самом деле нереальным, несуществующим словам и событиям. У тебя не слова расходятся с делом, а мысли со словами». Поразительно, как можно манипулировать такого рода категориями в подобных диалогах: что ни скажешь — все правда. «Короче, у тебя комплекс Отелло. Твоя ревность питается твоими собственными досужими вымыслами. Да, меня тянет к лицам из моего прошлого, к прежним лицам, — призналась она совершенно невозмутимо. — Его лицо не изменилось, и мне было приятно. То есть, наверное, он тоже изменился, но я его не видела десять лет и уже забыла, как он выглядит, с кем и когда он мне изменял. А ты постоянно торчишь у меня перед носом, и все твои измены до сих пор у меня перед глазами. Но главная измена в том, что ты сам изменился». Это она изменилась, но не хочет этого признать. Изменившись, чувствует вину по отношению к тем, кто остался тем же — самим собой. Поэтому обвиняет их в переменах и изменах. «Ты изменился, — настаивал в трубке ее голос, — ты лишился внутренней трагедии и стал просто обидчивым. Ты у меня на глазах из Отелло перерождаешься в Яго». — «В таком случае тебе крупно повезло: тебя задушу не я, а кто-то другой».
«Сильва у нас как советская власть: у нее незаменимых нет», — говорил я Джоан, излагая духовную биографию Сильвы как яркий пример хамелеонства и интеллигентского конформизма, воспринимавшегося со стороны как инакомыслие: она стала диссиденткой, когда московская элита диссидентствовала, она крестилась, когда православие стало интеллигентским шиком, она уехала, когда разочарованная элита обратила свое лицо к Западу, а сейчас со страшной силой стала перестраиваться в обратном направлении — в сторону России. Она, бросаясь в объятия Москвы, отталкивала меня от себя. Москва в ее лице снова выталкивала меня за рубеж, к Джоан. На ходу она перестраивала свою духовную биографию. В Москве мы крутились в одной компании: причины и сроки нашей эмиграции были в сущности одинаковы; она возвращалась, однако, из каждого московского заезда со слегка подновленным прошлым в чемодане. Интересные идеи она стала выдавать на публику. Получалось, что, в отличие от меня, у нее были разногласия лишь с политическим режимом, а не со страной как таковой, и поэтому, в связи с либерализацией режима, она без особых предубеждений относится, в принципе, к идее возвращения в Москву. Она вообще, получалось, уехала не по собственной воле: ее если не выдворили, то уж во всяком случае выжили с любимой родины. Я же, укативший за границу по собственной вздорной воле, не мог позволить себе возвращения — без признания собственного морального банкротства. Она, таким образом, получалась исконно русской патриоткой, я же выходил безродным космополитом. И, главное, все эти революционные трансформации и душевные откровения возникали, как это всегда бывало у Сильвы, необычайно вовремя: именно тогда, когда Россия стала в Англии такой модной страной.
Я рассуждал о Сильве с такой одержимостью и фанатизмом, что наэлектризовывал атмосферу вокруг себя, намагничивая ее так, что Джоан в тот вечер придвигалась ко мне все ближе и ближе. Возможно, я на самом деле защищался излишней разговорчивостью от ее агрессивных расспросов, выясняющих почти в открытую мое московское прошлое и лондонскую репутацию. Но этот светский допрос и скрытая в нем бессознательная подозрительность ложно воспринимались мной как попытка сближения, чуть ли не как влюбленность — если не любовь — с первого взгляда. Кроме того, в самом пьяном идиотизме нашего первого интимного разговора было некое ощущение душевного риска, тот адреналин откровенности перед незнакомцем, что легко путается с взаимной очарованностью. Взаимность была в обоюдном ощущении отверженности.
Главным сюжетом ее исповедальных монологов была неразделенная любовь. То есть с его стороны любовь как раз и разделялась: на семью и страсть, и страсть, как я понимаю, воплощалась в Джоан, а все остальное — в безумной жене, вздорных избалованных детях, огромном доме под закладную в далеком и шикарном пригороде Лондона, что, естественно, крайне усложняло географию любовной интриги. Поразительно, с каким упорством англичанин полжизни тратит на то, чтобы ни от кого не зависеть и жить в отдалении от вульгарной толпы, опостылевших друзей и надоедливых родственников; чтобы вторую половину жизни сходить с ума от одиночества и клаустрофобии семейного быта. Имя ее рокового любовника не называлось по соображениям семейной безопасности, что было несколько абсурдно, поскольку его супруга, как я понял, была прекрасно осведомлена о его перипетиях с Джоан. Такое впечатление, что и супруга и Джоан — обе пытались оградить обожаемое верховное существо «от светских пересудов», эти пересуды всеми возможными способами при этом подогревая. Вот уже год происходил некий фатальный пересмотр отношений в их треугольнике — загадочный, по-моему, и для самой Джоан.
Незадолго перед крикетной встречей я присутствовал при ее очередном «экстренном» телефонном совещании с законной супругой, когда Джоан, бледнея на глазах и кусая губы, повторяла, вжимаясь в трубку, одно слово: «Катастрофа. Катастрофа». А потом, плюхнувшись в кресло, после долгой паузы (которую я не знал, как нарушить, а она нарушать не желала — в несколько бессмысленном выжидании моих нетерпеливых расспросов), раскрыла мне наконец суть телефонного звонка. «Между нами возник третий лишний», — сообщила ей, как оказалось, сама супруга обожаемого существа, вроде вестника, предупреждающего союзника о появлении вражеских войск на дальних рубежах. Речь шла, как я понял, о появлении на горизонте у обожаемого существа еще одной любовницы. Эту «катастрофу» и загадочность личности «третьего лишнего» в этой мыльной опере я и воспринял как истинную причину ее отказа присоединиться ко мне на крикетном матче.