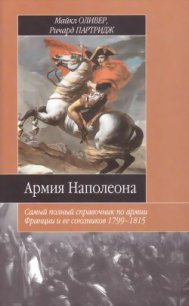Северное сияние - Марич Мария (читать книги без сокращений .TXT) 📗
В то время как царь завтракал, лейб-медик с помощью камердинера перебинтовывал его больную ногу.
— Дело заметно идет на поправку, ваше величество, — сказал Виллье с облегченным вздохом. — Слава богу, слава богу…
— А разве было опасно? — спросил Александр, отодвигая тарелку с недоеденным черносливом.
— Я опасался антонова огня, ваше величество.
Вошел Волконский и молча остановился против царя. Тот с удивлением поглядел на него. Волконский перевел дыхание, но продолжал молчать.
— Что? Что случилось? — тревожно вырвалось у царя. Почему это молчание? Говорите же, я вам приказываю отвечать!
— Ваше величество… Гонец от Марии Антоновны… Мадемуазель Софи…
— Умерла?! — упавшим до шепота голосом спросил царь.
Волконский низко опустил голову.
Александр отшатнулся. Лицо его побледнело до синевы. Грудь порывисто вздымалась.
— Вам дурно, государь? — наклонился над ним Виллье.
Александр полуоткрыл полные слез глаза и жестом попросил оставить его одного.
— Что же, вероятно, артиллерийское учение будет отказано? — спрашивали в приемной Волконского после того, как он рассказал о случившемся. — Можно и по домам?
Волконский неопределенно разводил руками.
Но царь вышел, как и было назначено, ровно в половине одиннадцатого. Как всегда, туго затянутый в мундир; как всегда, держа шляпу так, чтобы между двумя раздвинутыми пальцами приходилась пуговица от галуна кокарды; как всегда, слегка надушенный «Английским медом».
Мерным шагом, ни на кого не глядя, он дошел до середины приемной и, вскинув голову, не то приказал, не то спросил:
— Отправимся…
В этот момент, как и в течение всего смотра, лицо его ничего не выражало, кроме обычной любезности и привычного желания пленять и очаровывать.
На пятой версте по петергофской дороге от непомерно быстрой езды пала одна из четверки лошадей, мчавших Александра на дачу Нарышкиной.
Кучер Илья, соскочив с козел, торопливо отстегивал упряжь.
Царь даже не взглянул на бившегося в предсмертных судорогах коня.
— Скорей, Илья! Торопись! — приказал он. — Режь постромки!
Снова замелькали будки, шлагбаумы, верстовые столбы. Зазвенел в ушах ветер. И снова остановка: упала вторая лошадь. Кровавая пена заклубилась на ее оскаленных зубах. Бока ввалились.
Вытирая глаза рукавом кучерского плисового камзола, Илья отрезал куски упряжи, дрожащими руками.
— Скорей, скорей! — требовал Александр.
Марья Антоновна Нарышкина, одетая в глубокий траур, стояла у гроба дочери, когда по шороху осторожных шагов и смятенному вокруг шепоту поняла, что приехал царь.
Не дожидаясь приказания, все вышли.
Александр показался на пороге.
— Она… наша девочка… — указала Нарышкина на гроб и зарыдала.
Александр сделал несколько быстрых шагов и наклонился над покойницей.
— Софи! — тихо позвал он. — Софи! — И слезы живого стали падать на мертвое лицо и скатываться к золотистым прядям у крошечных мраморных ушей.
Марья Антоновна провела платком по лицу царя. Он выпрямился.
— С нею оборвалась последняя нить, которая привязывала меня к жизни, — глухо проговорил он и опустился на колени.
Крестясь, он припадал лбом к полу, и огни горящих возле покойницы свечей дрожали в золотой бахроме его эполет.
— Государь, — спустя несколько дней, сказал князь Васильчиков, — осмелюсь высказать вашему величеству совет об облегчении душевной тяжести.
Царь молчал.
— Архимандрит Фотий, — вкрадчиво продолжал Васильчиков, — видел новое откровение, прямо касающееся вашего величества.
Царь прислушался.
— Графиня Орлова писала графу Аракчееву, советуясь, доложить ли о сем вашему величеству. Но, видя грустное вашего величества расположение, я счел долгом предложить вам, государь, снова принять Фотия… Можно было бы даже нынче ввечеру ввести его тайным образом с секретного хода, дабы посещение это не стало гласным…
— Разве он в Петербурге? — со вздохом спросил Александр.
— Так точно, государь. У графини Анны Алексеевны Орловой.
— Хорошо, привози…
Реакционная клика всех стран и всех эпох имеет своих типичных представителей. Таким был в конце царствования Александра I невежественный и дерзкий монах Фотий.
Головокружительная его карьера объяснялась тем, что направляла ее всесильная рука Аракчеева.
Аракчеев, стремясь все к большему влиянию на царя, убирал со своего пути всех, кто мог бы в той или иной степени мешать ему в осуществлении полного своего владычества.
После того как ему удалось добиться значительного отдаления от царя его постоянного советника и спутника во всех путешествиях князя Петра Волконского, Аракчеев задумал устранить министра народного просвещения и духовных исповеданий князя Александра Голицына. Голицын был другом царя с детских лет, а в последние годы дружба их окрепла еще больше на почве увлечения мистицизмом. И все же Аракчеев старался убедить Александра, что все предприятия Голицына по части духовного просвещения — не что иное, как революция под прикрытием религии.
Для полного успеха своих намерений Аракчеев решил использовать графиню Орлову, богатую и фанатически-религиозную истеричку.
Влюбившись в дерзкого и беспутного монаха, она возила его по великосветским салонам, где Фотий, разыгрывая роль вдохновенного обличителя нечестия, произносил безудержно-наглые речи, густо пересыпанные крепкой бранью.
Речи производили на слушателей ошеломляющее впечатление.
Вскоре Фотий окончательно поселился в доме «дщери-девицы» графини Орловой и получил доступ не только в ее девическую спальню, но и ко всему ее колоссальному состоянию.
Слава Фотия достигла, наконец, своей вершины: монах был приглашен к самому царю.
После первой аудиенции Александр призывал его не раз для душеспасительных и покаянных бесед.
В этот последний визит Фотий был полон аракчеевскими наставлениями, а царь был охвачен мрачной меланхолией и чувствовал себя одиноким, несправедливо обиженным и обозленным на всех и на все.
Когда Фотий вошел в освещенный одним канделябром кабинет, царь молча подошел под его благословение. Потом взял его за руку и усадил на диван. Сам сел напротив, поставил локти на колени и, подперев ладонями щеки, пристально уставился в красное, слегка опухшее лицо монаха.
— Страждешь, государь? — спросил Фотий пропитым басом.
— Стражду, отче, — тихо ответил Александр.
— Смиреннейший царь, — начал Фотий, — царь, яко кроткий Давид; царь мудрый, царь по сердцу божию, достойный сосуд благодати святого духа, облегчи душу свою, пролей слезу, яко росу, на руно окрест сходящую. Господь узрит скорбь своего помазанника. Он поразит врази твои внутренние, кои, яко гады, клубятся в гнездилищах революции.
Александр закрыл глаза, а Фотий продолжал все с большим и большим жаром:
— Пресеки мановением десницы своея нечестие. Да падут богохулы и да онемеет язык расколов. И общества богопротивные, яко же ад, сокруши. Ты, победой над Наполеоном возвеличенный, убоишься ли зверя рыси, горлинкой прикинувшегося? Не отринешь ли министра духовного? Один у нас министр — господь Иисус Христос…
Все тише, но все явственней долетали до царя слова Фотия.
Они ударяли в сердце, и оно содрогалось тоскливым ожиданием грядущих бед.
Фотий сам испугался, когда увидел, что сделал с царем своими зловещими заклинаниями.
Положив руки крестом на склоненную к его коленям царскую голову, Фотий заменил исступленный шепот умильной речью:
— Вижу над тобой благодать святого духа, яко фимиам кадильный. Твори молитву, царь! Господь с тобою…
Александр упал на колени и, подняв глаза ввысь, заговорил в тон Фотию:
— Господи, буди милость твоя ко мне! Я же готов исправить все дела и твою святую волю творить.
Не вставая с колен, он обернулся к Фотию и так же растроганно попросил:
— Сотвори о мне здесь молитву ко господу, да осенит меня сила всевышнего на всякое благое дело!
— Царю небесный, утешителю… — начал нараспев Фотий.