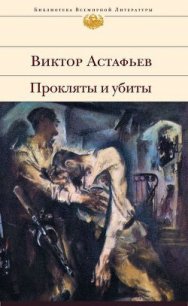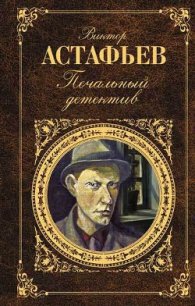Ночь космонавта - Астафьев Виктор Петрович (книги полностью .txt) 📗
— Я не могу ничего передать своей жене, Захар Куприянович, потому что не женат.
— Н-н-но-о-о?! Худо дело, худо! — Захар Куприянович, стараясь держаться в дружеском тоне, почесал голову под шапкой. — Это ведь они, девки-то как мухи на мед, на тебя набросятся и закружат! Закружа-а-ат. Не старый еще, при деньгах хороших, на виду у всего народа! Закружа-а-аат! Ты, паря, уши-то не развешивай, какую попало не бери, а то нарвешься на красотку — сам себе не рад будешь!..
Олег Дмитриевич улыбался, слушая ровную текучую речь Захара Куприяновича, его полунасмешливые советы по части выбора половины и все время пытался представить своего отца на месте лесника. Ничего из этого не выходило. Тот застенчивый, потерянный вроде бы в жизни, чем-то напоминающий чеховского интеллигентного чиновника, хотя вечный работяга сам и произошел из рабочей семьи. Говорят: баба за мужиком. А у его родителей все получилось наоборот. Пока мать жила — и отец как отец был, хозяин дома, глава, что ли. Но перед самой войной свернула тяжкая болезнь полнощекую, бегучую, резвую мать и унесла ее в какой-то месяц-два в могилу, и сразу отец сиротой стал, Олег и подавно.
До десяти лет, пока отец с войны не возвратился, Олег воспитывался у тети Ксаны. И устал. Устал от ее правильности, нерусской какой-то правильности, от сознания места, какое он занимал в чужой семье.
Было у тетки еще двое детей — дочь и сын. И все, что делалось или покупалось для них, делалось и покупалось для него. Но только яблоко ему почему-то попадалось с червяком, штаны заплатанные, ботинки поношенные, тарелка за столом в последнюю очередь… Ему все время давали почувствовать — чье он ест и пьет. И он не забывал об этом. Если поливал огород — не считал за труд принести лишнюю бадью воды, если чистил свинарник — выскабливал его до желтизны, если рвал рубаху — дрожал осиновым листом; разбитое стекло спешил сам и застеклить, хотя тетя Ксана никогда его не била, а своих лупцевала походя, и они с неприязнью, порой и враждебностью относились к сводному брату, вредили ему чем могли. Тетушка, горюнясь лицом, часто повторяла: «Олежек, тебе полагается быть поскромнее да потише. Ласковый теленок две матки сосет, грубой — ни одной…»
И это было хуже побоев.
Как же он был счастлив, когда вернулся с войны отец. Униженно выслушав тетю Ксану и униженно же отблагодарив ее старомодным поклоном за все, что она сделала для сына, отец отремонтировал хлев, покрыл заново крышу на домине тетушки, подладил мебель, переложил печь, из старого теса выстрогал «гардероп» — и не взял, к радости Олега, никаких денег за это и ничего из шмуток, «заведенных сиротке». Он взял сына за руку и увел его с собою.
Отец по профессии столяр-краснодеревщик, и поселились они жить в узенькой комнатке при мебельном комбинате. После смерти матери тихоня-отец пристрастился к выпивке, а на войне еще больше втянулся в это дело. Олег привык к нему пьяненькому и любил его пьяненького, смущенного и доброго. Воля Олегу была полная — живи и учись как знаешь, обихаживай дом как умеешь. И Олег учился ни шатко, ни валко, дом вел так же, однако к самостоятельности привык рано. Отец чем дальше жил и работал, тем больше ударялся в домашний юмор, называл себя столяром-краснодырщиком, краснодальщиком, краснодарильщиком и еще как-то. На комбинате заработки после войны были худые, отец халтурил на дому: делал скамьи, табуретки, столы и коронную свою продукцию — «гардеропы». Приморский городишко и особенно окраинные его поселки были забиты отцовскими неуклюжими «гардеропами». В любом доме Олег натыкался на эти громоздкие сооружения, покрашенные вонючим, долго не сохнущим лаком. За «гардеропы» в дому их не переводилась еда, стирали им бабенки, изредка подбирали в комнате, где все пропахло лаком, стружками и рыбьим клеем.
Как хорошо, как дружно жили они с отцом! Один раз, один только раз отец наказал его. Олегу шел шестнадцатый год. Он ходил в порт на разделку рыбы вместе с поселковыми ребятами, выпил там и покурил. Отец снял со стены старый солдатский ремень и попытался отстегать Олега. Покорно стоял паренек среди комнаты, а отец хвостал его мягким концом ремня и задышливо кричал: «Хочешь, как я?! Хочешь, как я?! Пьянчужкой чтобы?..»
Потом он отбросил ремень, сел к столу и заплакал: «Конечно, была бы мать жива, разве бы распустила она тебя так…»
Олег подошел, обнял отца; сухонького, слабого, и поцеловал его руку, опятнанную краской…
С тех пор он никогда не напивался. Курить, правда научился, но в летной школе пришлось и с этой привычкой расстаться. А отец, как жил, так и живет в приморском городишке, в той самой комнатке, обитой изнутри квадратами фанеры, и никакими путями не вызволить его оттуда. «Вот уж когда женишься, внуки пойдут… А пока не тревожь ты меня, сынок. Мне здесь хорошо. Все меня знают…»
Суетятся сейчас соседи, особенно соседки. В поселке дым коромыслом! — снаряжают отца в дорогу. А он, страшась этой дороги и всего, что за нею должно последовать, хорохорится: «Мы, столяры-краснодырщики, нигде не пропадем!»
Космонавт улыбнулся и тут же с тревогой подумал: «Не сказали бы отцу, что я потерялся. Сердчишко-то у него…» — И вспомнилось ему, как после гибели Комарова отец, наученный, должно быть, соседками, намекал в письме, будто космонавт выбрался из ракеты в океан и плавает на резиновой лодке, и надо бы искать его, не отступаться. Слышал о Комарове отец в поселковой бане, и в бане уж зря не скажут, сам, мол, знаешь — от веку все сбывалось, что здесь говорили… Олег прочел послание отца друзьям.
Покоренные простодушием письма, космонавты весь вечер проговорили о доброте и бескорыстии своего народа, и так уж получилось, что письмо то вроде бы и горе подрастопило, начала исчезать подавленность. Но не успели пережить одну беду, как громом с ясного неба ударила гибель Юры, а вскоре целиком экипаж «Союза»… Сколько же еще возьмет славных братьев это самое завоевание космоса?! Слово-то какое — завоевание!
— Захар Куприянович, как скоро придет этот самый варнак Антошка?
— Антошка-то? — Захар Куприянович передернул плечами, посмотрел выше кедров. — А скоро и будет. Вот стрельнем — он и будет! — Лесник снял с дерева двустволку, поднял ее на вытянутой руке и сделал дуплет. Выбросив пустые гильзы, зарядил ружье, чуть пошабашил и еще сделал дуплет. — Скоро будет, — прибавил он, цепляя ружье на сук. — Я думал, ты задремал?
— Об отце я думал. Беспокоится старик.
— Как не беспокоиться? Дело ваше рысковое, говорю. Матери-то нет? Нету-у… Значит, отцу за двоих угнетаться. Ты там летаешь выше самого Господа Бога, а он тут с ума сходи!.. Ох, дети, дети, и куда вас, дети? Ты ему весточку пошли, отцу-то.
— Как же я ее пошлю?
— Отсуда телеграфу, конечно, нету. А шийдисят верст пройдешь — будет станция березай, кто хочет — вылезай! Оттудова и пошлем отцу телеграмму, свяшшыкам твоим и всем, кому надо. — Предупреждая вопрос космонавта, Захар Куприянович пояснил: — Значит, об эту пору варнак мой с работы является. И сразу к матке: «Где тятя?» — «В лесу тятя». А тятю немецким осколком по кумполу очеушило. Он идет, идет, да и брякнется — копыта врозь. Лежит, все чует, а подняться не может. В городу один раз поперек тротуара — дак трудящие перешагивают, пьяный, говорят, сукин сын… Ну, а тут, в лесу, лежу-лежу — и отлежуся. Но ежели в назначенное время не явлюсь — Антошка находит меня, в чувствие приводит либо волокет на себе домой. Означенное время как раз наступило. Антошка по следу моему счас шарится.
— Как же вы, Захар Куприянович, с падучей — по тайге?
— А что делать-то, паря? На пече лежать? Так я в момент на ней засохну и сдохну. Во! — насторожился он и поднял предостерегающе палец. — Идет, бродяга, ломится!
Олег Дмитриевич напряженно вслушался, но ничего в тайге не уловил, никаких звуков. Редкие птицы уже смолкли. От деревьев легли и сгустились тени. В костре будто пощелкивали кедровые орешки, шевелилась от костра на снегу хвостатая тень. Стукнул где-то дятел по сухарине и тоже остановил работу, озадаченный предвечерней тишиной. Витушки беличьих и соболиных следов на снегу сделались отчетливей, под деревьями пестрела продырявленная пленка снега, от шишек, хвои и занесенных с березника ярких листочков.