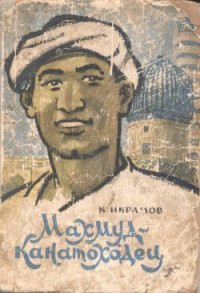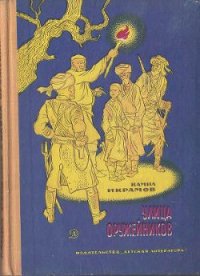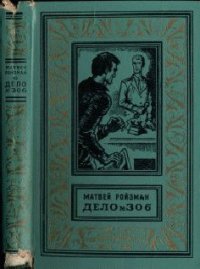Дело моего отца (Роман-хроника) - Икрамов Камил Акмалевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Я не знал, свободен ли я тридцатого, и потому задумался. А она продолжала:
— Будет два года со дня смерти моего мужа Я хочу позвать вас на кладбище, на его могилку.
Я растерялся. В то время я еще не собирался становиться писателем, даже не мечтал об этом, но почему-то боялся плагиата. Я четко помнил, что похожая ситуация описана Мопассаном, испытал чувство неловкости и, чтобы не отвечать «нет», спросил:
— А вы были замужем?
— Да, — сказала она. — Мы очень дружно жили.
— Что же с ним случилось? — спросил я, опять уводя разговор в сторону. — Отчего он умер?
— Видите ли, он покончил самоубийством, — сказала она, и я понял, что она готова рассказывать мне всю свою жизнь. — Он был очень тяжелый человек, нервный., тяжелый человек. Но он меня очень любил. Он меня очень любил… Конечно, с ним было нелегко. Однажды… у нас была такая собачка, тойтерьер, может быть, знаете? И вот эта собачка нагадила у нас в спальне. И он взял и прямо в спальне ее повесил…
— Да… — сказал я. — А где он работал?
— Он был адъютантом Лаврентия Павловича Берия, — не без гордости сказала она.
Так я узнал, что один из адъютантов Берии покончил с собой 30 мая 1953 года, за несколько недель до ареста своего шефа. Говорят, в 1953 году на станции метро «Дзержинская» и в общественной уборной на площади было несколько самоубийств. Так ли это, я не знаю.
Мою случайную знакомую я больше не видел. Моего телефона она не знала, а сам я ей не звонил.
Сейчас, готовя рукопись к набору (неужто будет книга!), я еще раз думаю о том, что я не строил этот сюжет, что факты сами сбегались ко мне, когда я вовсе и не хотел их искать.
Попытка литературоведения
С тех пор как я вернулся в нормальную жизнь, волнует меня и удивляет странное отношение общества к литературе. Может быть, так во всем мире?
Качает нас из стороны в сторону, и будто не было в стране великой письменности, и та, что доходит до нас, существует в каком-то очень далеком от собственного смысла качестве.
Волнуюсь, сомневаюсь, корю свою необразованность и вновь сомневаюсь. Недавно прочел случайно школьное сочинение восьмиклассницы. Девочка умная, но когда писала про «Героя нашего времени», то в учебник не заглянула, а на уроке, когда проходили роман Лермонтова, видимо, не была. Читал я это школьное сочинение и удивлялся свободе мышления, когда экзамен далеко. Выходит по этому сочинению, что Печорин отнюдь не альтер эго автора, а совсем наоборот Выходит, что автор первых двух глав и автор «журнала Печорина» антиподы, и первый, бесспорно, когда-нибудь будет убит вторым.
Вопрос там есть: почему это Григорий Александрович Печорин зовется в обществе Жоржем? Уж не про Дантеса ли думал Лермонтов, он ведь много думал о Дантесе.
И вот я, человек с высшим филологическим образованием, полученным в весьма зрелые годы, сажусь перечитывать «Героя нашего времени» и вижу, что восьмиклассница права, а поскольку этого не может быть, потому что не может быть никогда, я выкладываю на стол почти все, что написано про «Героя нашего времени» за сто сорок лет, и только в одной книге нахожу точку зрения, схожую по мысли со школьным сочинением дочери. Естественно, что не литературоведу принадлежит эта точка зрения, а полному дилетанту, офицеру в отставке, отставнику, как говорим мы теперь. Отставник писал, что ни в характере, ни в обстоятельствах жизни ничего нет общего между Печориным и Лермонтовым и не вина писателя, что многим вместо сатиры угодно было видеть апологию. Современные нам литературоведы свидетельство отставника считают примитивным. Оно и понятно! Где ему разобраться, если он не читал учебника для восьмого класса. Он не читал и восьмиклассница не читала — отсюда примитив.
Зачем я пишу про это в книге об отце? А я не могу не писать, потому что осознание прошлого не кончается тридцать седьмым, тридцатым или семнадцатым годом. И если почти полтора столетия самое знаменитое произведение самого знаменитого поэта России трактуется вопреки тексту, то о какой правде истории можно говорить?
Скажу только, что отставник, которого я упомянул, Аким Павлович Шан-Гирей, самый близкий родственник поэта, его младший (хотя и троюродный) брат и спутник всей его жизни. Лермонтов часто диктовал Шан-Гирею свои произведения, перечитывал с ним и обсуждал написанное.
Качество, в каком существует классика, не может не влиять на продолжение истории, и никакая политическая конъюнктура не должна мешать познанию истины.
Достоевский был какое-то время не в чести, значит, сегодня он должен быть на недосягаемом пьедестале, и его одинаково цитируют Н. Крымова, И. Глазунов, М. Гус и Ю. Карякин.
А что творится с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым? И ведь если не пробиться человеку с собственным мнением по литературным проблемам, то где же до истории. Начнем, однако, с литературы. С литературы, в которой тема преступления, наказания и искупления может помочь читателю разобраться во всем остальном, что есть в судьбе моего отца.
Пример классический. Антихристова печать
В апреле 1880 года к издателю некоей русской газеты явился господин с кокардой и предложил для печатания свою повесть. «Сюжет не новый, — объяснил он. — Любовь, убийство, но все, что в ней изображено, все от крышки до крышки происходило на моих глазах».
Когда господин с кокардой пришел за ответом, издатель объявил, что повесть или, скорее, роман, предложенный им, искажает фабулу преступления: главный преступник не тот вовсе, кого назвал писатель, а определенно он сам, вся же эта путаница отнюдь не результат заблуждений автора и не следственная ошибка, а фальсификация, учиненная совершенно сознательно. Бессознательно вышло только одно: действительность, деформированная в произведении, своими сломанными ребрами проступила сквозь искажения и поведала, как было дело.
Я убедился в этом, когда стал перечитывать произведение знаменитое и бесспорно замечательное: «Записки из Мертвого дома» в 4 томе Полного собрания сочинений Достоевского, снабженном обстоятельным комментарием и справочным аппаратом.
Не исключено, что когда-нибудь исследователи проведут сопоставления между этой книгой и теми, которые построены на сходном материале, но появились позже, будут, возможно, прослежены влияния, явная или скрытая полемика или же полное отсутствие литературной преемственности.
Для меня, например, сомнения в верности «Записок» возникли с главы «Первые впечатления». Автор рассказывает о старовере, которому каторжники давали «сохранить деньги с полною безопасностью».
«Это был старичок лет шестидесяти, маленький, седенький. Он резко поразил меня с первого взгляда. Он так не похож был на других арестантов: что-то до того спокойное и тихое было в его взгляде, что, помню, я с каким-то особенным удовольствием смотрел на его ясные, светлые глаза, окруженные мелкими лучистыми морщинками. Часто говорил я с ним и редко встречал такое доброе, благодушное существо в моей жизни».
«Характера был в высшей степени сообщительного. Он был весел, часто смеялся — не тем грубым, циническим смехом, каким смеялись каторжные, а ясным, тихим смехом, в котором много было детского простодушия и который как-то особенно шел к сединам. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что по смеху можно узнать человека, и если вам с первой встречи приятен смех кого-нибудь из совершенно незнакомых людей, то смело говорите, что это человек хороший. Во всем остроге старик приобрел всеобщее уважение, которым нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дедушкой и никогда не обижали его». И далее: «…несмотря на видимую твердость, с которою он переживал свою каторгу, в нем таилась глубокая, неизлечимая грусть, которую он старался скрывать от всех. Я жил с ним в одной казарме. Однажды, часу в третьем ночи, я проснулся и услышал тихий, сдержанный плач. Старик сидел на печи… и молился по своей рукописной книге. Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам: „Господи, не оставь меня! Господи, укрепи меня! Детушки мои малые, детушки мои милые, никогда-то нам не свидаться!“».