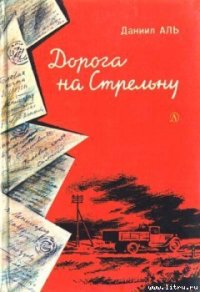Пермский рассказ - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
— Почему? — спрашиваю я. — Потому что это искажение исторической правды? Или…
— Нет, не потому! — перебивает меня Плетнев. — Это красивость. Так умереть всякий дурак согласится! Да еще на глазах любимой женщины: «Смотри, как я за правду страдаю, какой герой!»
— Постой, но это ведь смерть, — говорю я. — Умереть не так-то просто. Я видел, как умирают. А в муках еще тяжелее. И потом, это художественное произведение. Хотя я и разделяю твою точку зрения: не следует вводить некую неправду в историю. Даже в художественном произведении. И даже в деталях. Так? Закончили?
Но теперь и Ваня Бурых вступает в разговор. Он поддерживает Мишу Плетнева:
— Умирать труднее, я думаю, в самом обычном положении, как бывает на войне. В одиночку, когда друзья ушли вперед громить вражеские окопы, а ты умираешь, и никого рядом, и некому помочь! И ни на каком ты там не на кресте! И не как Христос какой-нибудь!
Эх, Ваня, Ваня! Вот и другие включаются в обсуждение этой «смерти на кресте»! Сейчас прозвенит звонок, все усядутся вновь за парты, и я ничего не успею передать Эль. Смешно, на лбу выступает пот, как у влюбленного юнца перед свиданием!
Но Миша неожиданно прекращает спор, он вспоминает о предстоящих воскресных соревнованиях и вместе с товарищами бежит из класса.
Я забираю портфель и, проходя мимо Эль, говорю:
— Пройдем со мной, мне нужно тебе что-то сказать.
Никто не обращает внимания на мои слова. Эль идет рядом со мной по коридору к учительской.
Возле седьмого «Б» стоит Ефим Сергеич и помахивает мне издали рукой. Я приостанавливаюсь, смотрю на Эль. И она тоже смотрит на меня. И в глазах ее столько надежды и горя, что я теряю разом все умно продуманные слова и, как какой-нибудь пятиклассник, быстро шепчу ей:
— Завтра, в Парке культуры, у второго фонтана, в шесть часов, понимаешь?
— О, да, да! — также шепчет она.
Мне кажется, она расплачется сейчас или упадет на пол посреди коридора. Ефим Сергеич кричит мне: «Поторопитесь, голубчик!» И я, наталкиваясь на школьников и сгорая от ложного, подлого стыда, почти бегу к моему любезному коллеге.
— Ну, что, молодой холостяк? Что вы все мучаете там своих подопечных?! Знаю, вы ведь любитель мандаринчиков. Жена звонила мне только что — на Крупской продают мандарины! И никакой очереди!
…По дороге «к месту свидания» я едва не столкнулся лицом к лицу с Ефимом Сергеичем. Я тут же трусливо «драпанул» — как любят говорить мои ученики — в гастроном, где только вчера еще покупал мандарины, и мне уже думалось, что встречу «пронесло». Но Ефим Сергеич не преминул войти в ту же дверь следом за мной.
— Приветик! — закричал он с порога в дружеском порыве, распознавая меня в толпе. — Какой модник сегодня! На свиданьице, разумеется? Галстучишко у вас — просто жених!
Следовало бы, конечно, поостеречься: Ефим Сергеич, хоть и завуч, всем известный болтун, все разнесет по школе. Но я был взбешен его репликой и закричал так же, как он, с теми же интонациями:
— На свиданьице! Тороплюсь! Приветик!
И пулей вылетел из магазина.
Я бежал по улице, по аллеям парка и чертыхался: «На свиданьице!.. У фонтанчика!» Смеялся над собой и видел себя со стороны: симпатичный брюнет затеял-таки заварушку! Ну и картинка — прямо на фотоконкурс! И куда же бежит, на хронометре всего полшестого. Нет, воистину потерял всякий такт! И еще этот глазастый, банальный галстучишко! Не следует ли подтянуться, товарищ историк? А то ведь и Эль, пожалуй, заметит: «Торопился на свидание!»
И тут я увидел Эль. У второго фонтана. Народу было здесь мало. Она стояла чуть опустив голову и, видимо, не замечала, как я подхожу к ней. И была во всей ее фигурке такая доверчивая покорность, что, сказать по правде, я вздрогнул и умерил шаг.
— Здравствуй, Эль, — сказал я, подходя. — Ведь так зовут тебя все, правда?
— Да! — откликнулась она, протягивая мне навстречу руку. — Это так! Все называют меня так.
И улыбнулась. И в улыбке ее сквозила та же доверчивая покорность.
Я взял ее руку в свою. У Эль была тонкая кисть, чуть пухлая, и пальцы тонкие, конусом: почти детская и вместе с тем уже — рука женщины.
— Пойдем, здесь хорошая аллея, и людей мало, и оттого как-то ближе к природе, — сказал я, указывая в сторону. — Ты природу, конечно, любишь тоже?
Она не ответила, только кивнула.
Мы прошли несколько шагов молча, и я сказал вновь о природе.
— И я тоже. — Но нужно было говорить о другом. — Не подумай, Эль, что я назначил тебе свидание, это звучало бы пошло.
— О, что вы! — прошептала она, глядя мне в глаза. — Я так верю вам, вы же знаете…
— Конечно, конечно, — заторопился я, не находя, как продолжить разговор. Рассказывать о Риме, или монголах, вторгшихся в русские степи, или о средневековье, оказывается, было несравнимо легче! — Иначе и невозможно, Эль! Нам надо ведь поговорить о многом, и давай говорить как взрослые, хотя я привык считать вас детьми, всех вас, да вы и на самом деле еще дети.
— Алексей Федорович, мне скоро будет… — Эль запнулась. — Мне будет…
И я поспешил вновь заверить ее, что и это я знаю, все о них знаю. Но Эль не согласилась со мной:
— Нет, вы не знаете. Вы многого еще не знаете, хотя кое-что и знаете теперь, конечно. Мы никогда не говорили с вами. Вот так, за стеной школы.
И опять эта доверчивость и покорность. Я не знал, что сказать Эль еще, и почувствовал, как почва уходит из-под ног. Никогда раньше не было со мной такого, ни во встречах с женщинами, ни на фронте. Я поглядел на ее лицо и ужаснулся, как смертельно побледнело оно. Казалось, ветер, что шел нам навстречу, смыл с него краски. Я было протянул руку, я хотел уж спросить: «Эль, тебе плохо?» Но она движением головы, словно угадывая мысли, отвела мою руку и вопрос.
— Да, Эль, давай как взрослые!.. — Становилось неловко, тянуть — невозможно: сказать нужно было правду. — Я никак не хочу обидеть тебя. Я хорошо отношусь к тебе. Ты это и сама, наверное, знаешь? Как и ко всем моим ученикам…
Мне послышалось, как со стороны, что я говорю громко, слишком громко и бодро, почти кичливо, я постарался сдержать голос, говорить медленнее; увидел, как ловит каждое мое слово Эль.
— Да, как ко всем моим ученикам. Но то, что ты пишешь…
Ни вздоха. Лицо невозмутимо. Мне стало вдруг жаль ее, невыносимо жаль. Я взял Эль под руку, слегка привлекая к себе.
Мы сделали еще несколько шагов по аллее.
— Я не могу говорить неправду. Нет хуже неправды, Эль. И ты не простила бы этого. Я очень люблю тебя. Ценю. Быть может, больше, чем других в классе. Ты умная, способная, чуткая, по-своему мыслишь, и без штампов, без этого горького груза нашего времени. Не по стандарту. Этим пропитано и все твое письмо.
— Не говорите о нем, — умоляюще прошептала она. — Теперь я уже все знаю, понимаю, простите меня.
— Что ты — «простите»?! — сказал я. — За что прощать? Ты очень хорошая, Эль. Но давай поговорим как взрослые.
И подумал: «Опять — давай! Опять — как взрослые! Не то, нет, совсем не то говорю я!»
— Эль, я тоже испытал кое-что в жизни. Думаю, кое-что могу понять. Поверь, твои слова царапают мне душу.
Я еще раз посмотрел на нее. То же мертвенно белое лицо. И опять — ни вздоха, ни слова.
— Ты все же должна понять меня, Эль, — сказал я, — иначе не получится разговора. Послушай меня: все, что ты пишешь, немыслимо. Это воображение, одно воображение, вдохновение, если хочешь, какое бывает, наверное, у поэтов. Я, конечно, тебе благодарен, очень благодарен. За все слова, за тепло, за доверие. Но это невозможно, Эль, невозможно. Ведь я уже старик, Эль. Я говорю с тобой честно — старик.
— Но разве это что-нибудь значит! — сказала она.
— Что ты, Эль! — воскликнул я и почувствовал, как невольно сжимаю ее руку. — Я люблю тебя, ты мне все равно что дочь, и я люблю тебя, как, вероятно, любят дочь. И я ценю твой порыв и жалею, что сам не молод. И что все это невозможно. Но ты и сама скоро убедишься…