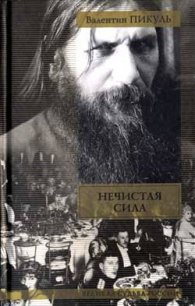Мальчики с бантиками - Пикуль Валентин Саввич (читать книги без .TXT) 📗
Мы ушли в море. Мы вернулись с моря. «Разводящего» на рейде Ваенги уже не было. А голова Витьки однажды промаячила в люке «Достойного». У меня там был приятель-сперрист, я спросил его:
— А чего этот пентюх? Почему он вас объедает?
— Да он с «Жестокого», а «Жестокий» на охоту ушел…
Тут я все понял. Хитро придумано. Человек, вроде бы, при деле. Сыт, одет и спит в тепле. А боевой пост им покинут. В поганом настроении я делал утром приборку в каюте «смерша». Надо сказать, что кавторанг относился ко мне по-отечески, никогда меня не ругал, а лишь сокрушался с шуточками: «Ах, юнга, юнга… опять после тебя пыль осталась. Пороть бы мне тебя, да устав не позволяет!» Сегодня он просто спросил:
— Огурцов, ты чего нос на квинту повесил?
Сначала я смолчал. А потом у меня вырвалось:
— Вот вы обязаны шпионов и вредителей отыскивать. А как вы относитесь к дезертирам?
Мой «смерш» был большой любитель помыться. Он со вкусом выбирал в шкафу полотенце, собираясь следовать в ванную.
— А как, — спросил он, насвистывая, — я могу относиться к дезертирам? Так же, как и ты. Не лучше. И не хуже.
Я закинул щетку за шкаф и собрался уходить из каюты.
— Глаза у вас у всех на затылке, — сказал я.
Продолжая свистеть, «смерш» взял кусок мыла.
— Постой! А с чего ты о дезертирах беспокоишься?
— Встретил тут одного.
«Смерш» сунул полотенце обратно в шкаф и выбрал себе другое.
— Дезертиров, — ответил он, — на эсминцах не бывает. Никто даже не знает, с чем их едят! Если же такой подлец сыщется, то… куда он денется? Без документов. Без денег. Без продуктовых карточек. К тому же существует на флоте порядок: через три часа после неявки матроса сведения о нем уже даются в штаб флота.
Спокойствие капитана второго ранга меня даже взбесило.
— Вы, — сказал я ему, злорадствуя, — можете перепахать носом всю страну до самого Сахалина, но никто из вас не догадается искать дезертира с эсминцев… на эсминцах!
И поведал ему о Витьке Синякове: ведь так можно до конца войны ползать с эсминца на эсминец, никуда не отлучаясь, и всюду пользоваться даровым гостеприимством. На следующий день я опять делал приборку в двухместке и ни о чем «смерша» не спрашивал. Он сам завел разговор со мною:
— А ведь ты прав… Сведения о Синякове, как о дезертире, штаб флота уже давно выслал по месту его призыва. Думали, он в родные Палестины подался. У печки кости греет. А он здесь. Сукин сын! Даже чисто выбрит оказался. Под мухою был. Ну, его взяли.
Вспомнил я тут, как бывало мне тяжело в море. Как я в сутки спал по четыре часа. Мокрый. В волосах лед. А он, гад фланелевый, порхал с эсминца на эсминец, будто воробей… там клюнет, там попьет, там побреется! Я спросил кавторанга:
— А что теперь ему будет за это?
— Если бы такой фортель выкинул ты, вышибли бы из комсомола. Списали бы с флота, как несовершеннолетнего. Но этот-то обалдуй! С ним дело ясное — штрафной батальон.
— Правда, что там все погибают, как смертники?
— Не совсем так. Штрафники — не смертники, но обязаны искупать вину до первой крови. Потери в штрафбатах, конечно, большие.
Случилось так, что вскоре наш эсминец зашел в Мотовский залив, высадив на Среднем, почти у самой передовой, десант пехоты. Я не мог не побывать на полуострове, славном своей героической обороной. Как был — в робе и ватнике — зашагал по дороге, ведущей на Муста-Тунтури, где шла страшная война в скалах. Заглянул в землянку. Да, тут не те землянки, какие были у нас на Соловках, — она напомнила мне кладбищенский склеп. При свете фитиля два солдата били вшей на гимнастерках. Один из них был уже старый, с большой лысиной и бровями Мефистофеля, а другой… другой был Витька Синяков!
Он со мною охотно поздоровался:
— Жив и я, привет тебе, привет… Вот, познакомься. Мой товарищ по «бату». Вчера едва живы остались. Он штабной с Ладожской флотилии. Почти адмирал! Самовольно отвел бронекатера с позиции, и его сюда закатали. Как видишь, компания у меня приличная…

Лысый «почти адмирал» двинул бровями, как ширмами, спросил:
— Эй, оголец! Обыщи себя на предмет курева… Есть?
— Неужто до сих пор некурящий? — сказал Витька.
— Нет. Обещал отцу, что до двадцати не притронусь.
— Достань махры, — взмолился Витька.
Я сказал, что сбегаю на эсминец и принесу им махорки.
— Обманешь, — не поверил бровастый «почти адмирал».
Я не обманул их. Ноги молодые, быстро слетал на «Грозящий», вернулся обратно с пачкой самосада. Штрафники алчно накинулись на махорку.
— Спасибо, — говорил Витька, — что не забыл друга.
Мне было жаль Синякова, но щадить его я не стал.
— Не ври! — сказал я. — Друзьями мы никогда не были. Просто я расплачиваюсь с тобой по старому счету.
— Табаком-то этим? А за что?
— Что ни говори, а на флот-то я попал благодаря тебе. Мне тогда в соломбальском Экипаже после блокады и голода никак было не выжать семьдесят килограммов… Ты выжал их за меня!
Больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним.
Наверное, пропал. Жалеть ли его?
Одограф — хитрый электромеханический жук, который, ползая по карте, автоматически вычерчивает на ней все изменения курса корабля. Обычно, когда эсминцы охотились за подлодками, под одограф подкладывали чистую кальку. Потом, по возвращении с моря, эту кальку командиры кораблей сдавали в штаб бригады. Она, эта калька, являлась важным государственным документом атаки на противника. По кальке отмечали все промахи командира, по таким калькам офицеры учились топить вражеские подлодки. Все заходы для бомбометания, все сложнейшие эволюции эсминца при атаке вырисовывал одограф, работающий от матки гирокомпаса и от счетчика лага.
Кстати, потопить подлодку не так-то легко. Бывало не раз, что на поверхность моря, заодно с пузырями воздуха, выбрасывало содержимое гальюнов, запасы сушеной картошки и решетки разбитого взрывами мостика. Мы уже праздновали, собираясь вписать в звезду на рубке эсминца новую цифру побед, но разведка докладывала, что поврежденная подлодка дотянула до базы. Немецкие подводники были матерыми и опытными вояками.
Скоро со мною случилось одно событие, на первый взгляд малозначительное, но которое в корне изменило всю мою жизнь. Это произошло при атаке на подводную лодку, которую удачно засекли гидроакустики. Когда я взлетел по тревоге на свой пост, штурман уже пустил одограф гулять по карте. Сильные магниты удерживали прибор на качке, прижимая его к намагниченному столу. Тихо постукивая, одограф выставил паучью лапку с карандашом и был готов записать все элементы атаки.
Присяжнюк протянул мне секундомер:
— Я взбегу на мостик, а ты время каждого взрыва проставляй на кальке… Ясно?
Конечно, ясно. Я встал, как и штурман, внаклонку над столом. Расставил ноги пошире. Надо мною — амбушюр переговорной трубы, и через этот раструб я слышал все, что делалось на мостике.
Вот раздался возглас командира БЧ-3:
— Первая серия — пошла! Вторая — товсь…
Я отметил время сброса первой серии глубинных бомб, а мой одограф, тихо стуча, передвинул карандаш, рисуя другой курс. Значит, легли в развороте. Открыв дверь рубки, я пронаблюдал, как четыре водяных гейзера выросли за кормой, прикрытые сверху шапками оранжевого дыма. Снова отметил время. С мостика было слышно, как сорвано доложил акустик:
— Лодка уходит… пеленг… глубина погружения…
— Третья — товсь! Дистанция взрыва сорок-шестьдесят.
И вдруг мой одограф остановился и замолчал.
— Одограф скис, — доложил по трубе я на мостик.
Сверху через амбушюр донесло возглас командира:
— Пропала калька, дьявол ее раздери…
Я выдернул из кармана отвертку, которую носил при себе, подражая Лебедеву. Что случилось, дружище? Соленоид забарахлил? Нет контакта с лагом? Нет, все дело в шаг-моторе, от реверсов которого и шагает одограф по карте. Я сунулся отверткой в клеммы, поджал их — и одограф застучал снова.