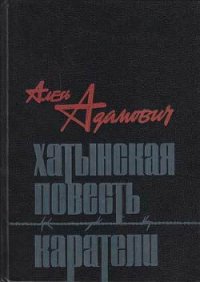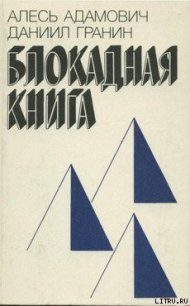Хатынская повесть - Адамович Алесь Михайлович (электронные книги без регистрации txt) 📗
Жила Глаша с матерью, еще молодой статной женщиной, отца своего знала только по фотографии, на которой он во весь рот смеялся. Откуда-то с Урала приходили от него алименты. А однажды прилетела еще одна фотография, на которой целая гроздь таких же, как у отца, улыбок: Вера, Надежда, Любовь – далекие Глашины сестрички по отцу.
В деревне Глашу и ее красавицу мать называли Глашкой-десятитысячницей, Ульяной-десятитысячницей. Случилось им везенье выиграть такую сумму на облигацию, даже в районной газете сообщалось про это. Вот тогда хозяина дома и завертело-закрутило, аж на Урал закинуло.
Нравился Глаше сначала не Косач, а Женька, «если бы только не такой рукастый». Они с Женькой ссорились, обливали друг друга водой, почти дрались и громко, сердито оправдывались, она – перед матерью, он – перед командиром: «Пусть сам (сама) не лезет!»
Летом сорок третьего года немцы взялись бомбить партизанские деревни. Глаша вдруг оказалась в нашем отряде. Ульяна упросила Косача, хотя у нас даже на кухне и в санчасти были почти исключительно мужчины. Мать Глаши справедливо рассудила, что в партизанском лагере все-таки безопасней, чем в семейном, куда она сама переселилась вместе со всей деревней.
Вначале возле кухни да в санчасти стали замечать коротковолосую узенькую, как линеечка, девушку, застенчиво рослую и быструю. Для своих семнадцати лет она была довольно высокая, но с такими узенькими плечами, смущенно тянущимися кверху, такие у нее были радостные синие глаза, что порой она казалась совсем девочкой.
То, что пришло, пришло не сразу – после очередной «блокировки», блокады.
Блокада кончилась, мы снова начали замечать многое в мире. Из блокады люди обычно выходили, как после изнурительной болезни: ослабевшие, но невероятно жадные к тишине, сну, смеху, голосам, дневному свету. День снова становился днем, а ночь – ночью, луна уже не была похожа на осветительную ракету, а человеческие тени – на могильные ямы.
Вот тогда мы и обнаружили, что возле нас живет «командирша».
Прежний наш лагерь немцы разрушили, сожгли, жили мы уже в другом лесу, спали не в землянках, а прямо под деревьями или же в «райских шалашиках» – маленьких буданчиках из еловой коры.
Дневалишь под утро среди этого временного табора, окруженного зябко, стыдливо белеющими елями, с которых содрана, снята кора, и внезапно заметишь, как в крайнем от дороги буданчике покажутся из-под тулупа разутые ноги и тут же испуганно спрячутся. Голос Косача в буданчике неправдоподобно добродушный, а Глашин смех такой вдруг женский, глубокий.
Если Косач уезжал в эту пору, провожали его влюбленно-ревнивые взгляды, мой и Глашин. А однажды наши с нею взгляды встретились. Косач задумчивой трусцой проехал мимо меня, я взглядом проводил его и оглянулся на буданчик. Глаша сидела, зябко обхватив тулуп на коленях, глаза ее, потеряв за деревьями Косача, наткнулись на дневального. Не знаю, что мой взгляд сказал ей: кажется – так и быть! – разрешал и ей любить командира. На лице ее мелькнул испуг, и она спряталась в буданчике.
Вставала «командирша» теперь позже всех. Но я понимал, что это от страха перед нами, перед нашими улыбочками, взглядами. Все, чего Косач, возможно, и не замечал, теснило ее вдвойне, как только наступали утро, день.
Вот проснулся наш лагерь: кашляют, смеются, закуривают, умываются желтой, как холодный чай, болотной водой. Кто сухарь грызет, кто высек кресалом или с кухни принес огонь и развлекается, спасается от комаров костерчиком, а кто оружие осматривает. Ночь кончилась, но день еще не начался – самое время громко перекликнуться с другом через весь лагерь, обсудить или обсмеять что-либо, коголибо.
В командирском буданчике будто и нет никого. «Командирша» появляется перед нами уже одетая и причесанная. Сторонкой проходит к бочке с водой, беззвучно, точно разбудить кого-то боится, умывается под деревом. Чаще всего в аккуратных сапожках и сером немецком свитере, не закрывающем ее худенькой шеи, но вдруг появилось еще и черное платье – такое свободное на узеньких плечах, такое шелковое, нелепое. Ей хотелось перед нами быть как можно взрослее, а выглядела она в этом длинном платье еще беззащитнее. И особенно эта ровная и неприятная, какая-то чужая женская белизна, проступающая сквозь черный шелк!
Глаз не поднимает, губы сжаты, лицо заспанное и недружелюбное – «командирша»! Но кто-нибудь, кто постарше, подобрее, окликнет ее или поздоровается – она вздрогнет, вся закраснеется испуганно-радостно, а узенькие приподнятые плечи так и ходят, борясь с неловкостью, смущением.
Но когда Косач в лагере, забывает она и про нас, и про себя. Видит только его. Как дрожит тень, ловя настигающий ее луч солнца (вот-вот посветлеет, растает в нем), так вспыхивала, светлела она, если поблизости был Косач.
Мы собираемся на операцию, общее построение отряда на заросшей мелким кустарником поляне. Все стоят, только мы, ездовые, сидим на тачанках. Высоко, нам все видно. Несколько комиссарских слов говорит перед строем Шардыко. Сколько помню его, всегда он ходил с перевязанной рукой или забинтованной головой: очень старательно отыскивали пули это маленькое подвижное тело. Костя-начштаба однажды объяснил, отчего так получается:
– Шустрый ты очень, комиссар. За всех везде поспеть хочешь. По дождю бежать – все капли соберешь: и свои, и не свои. Привык в колхозе – от окна к окну. Нет, пусть каждый свое сам знает!
Косач слушает комиссарову речь, опустив голову, о чем-то думая или просто дожидаясь, когда надо будет давать общую команду.
Глаша среди хозвзводовских и легкораненых ждет, я вижу, как она ждет его взгляда. (Я даже злился на него порой, так она ждала, а он сердито не замечал этого.) Наконец поднял голову и посмотрел в ее сторону. Неосторожно долго глядел, о чем-то своем думая. Перевел глаза на комиссара. Но было уже поздно: Глаша, как позванная, двинулась к середине поляны. И, как нарочно, на ней то самое платье – нелепо длинное, шелковое.
Весь отряд наблюдал за странным ее, лунатическим движением. Комиссар замолчал и неодобрительно взглянул на Косача. Костя-нячштаба засмеялся, сказав что-то.
Я обмер, наблюдая, как Глаша идет к середине поляны, не замечая ни внезапной тишины, ни мрачного за усмешкой лица Косача. Но вдруг заметила, словно острого коснулась. Остановилась, огляделась в ужасе, как человек, обнаруживший себя на ушедшей от берега льдине. Косач отвернулся, а она побежала в лес.
Если я что и любил в ней в ту пору, то именно эту ее влюбленность в Косача. Отраженно, так сказать.
В детстве вот так же отраженно влюблен был в брата своей одноклассницы. Он был для меня живым слепком, повторением своей сестры. Те же глаза, тот же рот, а ты не робеешь – смотри, сколько твоей душе угодно. Мальчишки изводили безвольного и плаксивого сына приезжего учителя, а я опекал его, защищал. Он же, чувствуя мою непонятную от него зависимость, в свою очередь меня тиранил, капризничал. Но это делало его еще более похожим на сестренку и еще больше привязывало меня к нему. С ним я мог как бы ненароком назвать имя той девочки, вслух произнести при всех, главное, вслух – в этом было все дело, особенная сладость.
Вот так, кажется, и Глашу вначале воспринимал. Почти так. Но она не замечала тайной, заговорщицкой доброты моей, опеки, нашего тройственного союза не замечала. До самой встречи на той поляне, где красные кузнечики разлетаются, брызжут из-под ног.
… Эти искры, эти быстрые точки на черном экране моей слепоты – иногда мне кажется, что это не осколочки боли, что они оттуда, с нашей поляны. На поляне я бывал и прежде, и не раз искал своего Геринга, но красных кузнечиков не замечал, хотя, конечно, они там были все лето.
А лето уже на исходе, влажный и теплый лес пропах грибами, черникой, жирной гнилью, как старый погреб. Постукивает дятел. Сначала почудится – далекий пулемет. Вслушаешься – нет, близко, дятел старается. Бой будет не сегодня, а только к утру. Непосредственный мой начальник Сашка сидит в лагере, смазывает пулемет, моя же забота – лошади, телега. Что-то серьезное, раз пойдут тачанки. В кустах через поляну вижу серую спину нашей пристяжной. Значит, и Геринг где-то здесь. Я занялся орехами. Их столько завязалось, что можно вслепую, на ощупь рвать: нагнешь ветку и комкаешь суховатые, покалывающие ладонь листья, пока не нащупаешь твердую тяжелую гроздь, гронку. От зеленой ореховой мякоти во рту кисло и прохладно…