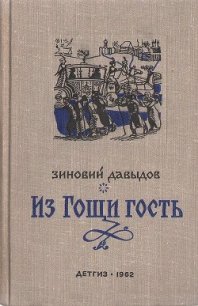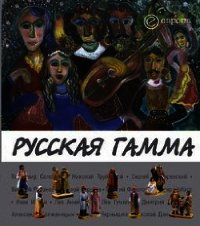Русская служба и другие истории (Сборник) - Зиник Зиновий Ефимович (книги онлайн без регистрации полностью .TXT) 📗
«Полина, между прочим, из центра переехала», — после долгой паузы сказал отец. Автобус стоял в пробке у здания Верховного суда: псевдоготические арки с химерами проглатывали и изрыгали адвокатов в черных мантиях. Они были похожи на служителей загробного культа — именно в тот момент, когда отец решился упомянуть еще одно имя из оставленного потустороннего московского мира.
Алек помнил скуксившееся в плаче лицо бывшей жены, когда он кричал, что больше не желает делить с Полиной коммуналку «советской судьбы»: чтоб его не схоронили по ошибке с коммунистами на кладбище одном — цитировал он ей в ажиотаже семейного спора знакомого поэта Есенина-Вольпина. Теперь он оказался в Англии, там, где могила Маркса, на кладбище мирового коммунизма. Никуда от них не денешься. Если бы не плаксивые причитания Полины, он выбрался бы из Москвы, из этого топкого дачного болотца царизма, коммунизма и символизма заодно, лет на десять раньше, когда ему еще не было тридцати, когда в будущее заглядываешь, как Лена, вытянув шею, и нет резону оглядываться назад, потому что некого винить в собственном прошлом.
«Она на новую квартиру добровольно-принудительно переехала, — как ни в чем не бывало продолжал отец. — Весь дом, известное дело, под учреждения отдали. А жильцов, само собой, в новые районы. Полина, знаешь, протестовала, писала в разные инстанции. А теперь, знаешь, даже довольна. Квартира новая, светленькая. Двухкомнатная она. А рядом озеро. Зеленый такой район. Далековато, правда: на метро до конечной, а потом еще на автобусе. Но зато своя хата, как говорится, с краю. Полина, правда, тоскует по центру. Мы с ней иногда перезваниваемся, говорим о тебе». Алек кожей чувствовал, как отец шевельнулся, чтобы положить свою тяжелую руку на плечо сыну. Но так и не решился. Рука дрогнула, но осталась на колене; рыжеватые волосы между костяшками пальцев — в точности как у Алека. Отец кашлянул: «Полечка, знаешь, совершенно одиноко живет. Совершенно. Я даже ей предлагал съехаться. Или вот сюда вдвоем в Лондон махнуть: вдвоем, глядишь, и не соскучишься?»
«Не соскучишься? Это ж надо!» — повторял про себя Алек, яростно сжимая никелированный поручень сиденья напротив. Они, стало быть, едут сюда с одной заботой на уме: как бы здесь не соскучиться. Он их тут должен развлекать. Они его провожали, как на тот свет, живьем хоронили. Он оказался тут, как на необитаемом острове после бури: в отрепьях и уже немолодой, в руках пишущая машинка, вокзал, дождь, и больше никого, ни одного знакомого лица. Он думал, что конец. Он погиб. Он был уверен: он закончит свои дни в канаве. И вот хоронивший его человек сидит рядом с ним не в канаве, а на втором этаже автобуса, рассуждая, как бы им, приезжим, не соскучиться в Лондоне. Как будто ничего не произошло. Как будто не было нужды в самоубийственном прорыве за железный занавес, да и самих тюремных ворот как будто никаких не было: надо было просто чуть переждать, пересидеть, набравшись гордого терпенья, скорбно трудясь во глубине сибирских руд или валдайских учреждений. Лондонский автобус дернулся, оставляя наконец готику Верховного суда позади.
«У тебя здесь, как я понял, новая супруга завелась?» — осторожно поинтересовался отец.
«Откуда ты это взял?» — покосился на него Алек.
«Ниоткуда не взял. Ты же сам мне телефон прислал. На всякий пожарный. Леной звать, разве не так?»
«Она не супруга. Просто хороший друг. Своего рода ученица. Близкий мне здесь человек. Точнее, мы просто вместе живем. Не всегда, впрочем». Он запнулся.
«Сожительствуете? Ты не думай, что я осуждаю, — забормотал он поспешно: — Это у нас так раньше называлось, если не женатые. Ты знаешь, что твоя мама, она не первая моя жена?» — сказал он, как будто стараясь загладить свой промах насчет «сожительства». Отцовское признание прозвучало настолько неожиданно и не к месту, что Алек зашнырял глазами, перегнулся через сиденье и затараторил, указывая на Буш-Хауз, про Русскую службу Би-Би-Си и как все изменилось, когда перестали глушить. Но заглушить отца, как и следовало ожидать, было немыслимым делом, и Алек в конце концов затих и нахохлился, делая вид, что слушает вполуха, ради вежливости.
Очередная мелодрама сталинской эпохи. Конец тридцатых годов. Зауралье. Областной центр. Отца направили в эту глушь по распределению — отплатить свой долг народу и государству после университета: вести курсы по повышению квалификации для преподавателей местных школ. Алек помнил отцовские, подернутые охрой, как дагерротипы, фотографии из семейного альбома тех лет: в те годы московские студенты еще подражали своим соратникам из Сорбонны и Оксфорда — экзотические до анекдота английские бриджи, гетры, жилетка и бабочка. Алеку пришло в голову, что он мог бы быть одет сегодня точно так же, как его отец полстолетия назад, ничем не отличаясь от очередного британского профессора-эксцентрика и одновременно повторяя в малейших деталях своего отца. На мгновение он осознал себя двойником, тенью чужого прошлого, незаконно пробравшимся в настоящее вместе с оригиналом. Или же наоборот, он сам раздвоился на две временные ипостаси, путешествующие в одном и том же автобусе. Как он небось блистал в том затхлом городишке. Набриолиненный пробор, загибает нечто про высшую гармонию, глаза сияют. Короче: столичная штучка! Можно себе представить, как млели, глядя на него с обожанием, все эти незамужние (а замужние в особенности) провинциалки-курсистки Зауралья. Одну из них звали Верочкой. И они полюбили друг друга.
«Мы полюбили друг друга. Чуткая, знаешь ли, была женщина. Она была из семьи, как бы это сказать… — Он помялся и наконец подобрал подходящее слово: — Из семьи пострадавших». Алек засопел свирепо, стараясь не перебивать отца. Даже сейчас, после стольких лет и стольких оттепелей, уже здесь, в Лондоне, рядом с сыном, отец не мог забыть тех сибирских морозов: не мог сказать прямо, что та первая любовь, зауральская жена его, была дочерью «врагов народа», что ее родителей расстреляли, что ее, школьницу, сослали в зауральскую глушь на поселение. Вместо всего этого он употребил слово «пострадавшие», от слова «страдание», пострадали, мол, непонятно от кого, вообще пострадали. И кто его знает, чего он страдает. Вместо строчки только точки: догадайся, мол, сама. А через год уже началась война, отца призвали в армию и отправили на фронт. Тяжелое ранение, военный госпиталь в тылу, демобилизация, а на выздоровление — домой, в Москву. Там он и встретил мать Алека. И они полюбили друг друга.
«Мы полюбили друг друга. Она тоже была чуткой женщиной. Я был поставлен перед выбором. Метался, знаешь ли. Пока не понял: решаешь не ты — решает жизнь».
Любопытное решение. Особенно если у другого в жизни нет никого и ничего, кроме тебя. И еще облупившаяся краска школьного коридора. Парторг и чекист в горсоветовском окне, засиженном мухами: играют в шахматы. Очередь у продмага. Улица в ухабах со свиньей у забора. Бузина и лопухи. Огромные возможности для выбора. Комната в коммуналке и письмо из Москвы от мужа с фразой в конце: «Я выбрал жизнь».
«Вера, ты знаешь, была бездетной. — Пауза. — И я выбрал твою маму». Отец произнес эту фразу с торжественной непререкаемостью советского дарвиниста, оправдывающего все идеей выживания, продлением рода: потому что выжить для его поколения и значило верить в доброе и вечное. Но, взглянув на перекошенное лицо Алека, он заерзал: он явно углядел в этой бледной гримасе осуждающее презрение, и поспешил добавить, оправдываясь перед младшим поколением за этот самый дарвинизм: «Но ведь, знаешь, если б я не женился на твоей маме, ты бы не родился, тебя бы, так сказать, не было на свете. Согласен?» И он заискивающе заглянул из-под низу в гробовую мрачность сыновнего лица. Если бы не отец, его бы не было на свете. На этом свете. В этом Лондоне.
Автобус дернулся пару раз и окончательно застрял в гигантской пробке — через весь Стрэнд до Трафальгарской площади с колонной Нельсона в дрожащем от бензинных паров мареве. Казалось, эта вереница колес тянется до Зауралья. Если бы отец остался за Уралом, он, Алек, не родился бы. А за Уралом не раскачивалась бы в петле самоубийцы его несостоявшаяся мать. Хотя она, возможно, и пережила предательство его отца, как пережила в свое время гибель своих родителей. Она могла бы быть его матерью, но от другого отца. Мог бы он, Алек, родиться от другого отца? В другом месте, в иное время? От Нельсона на колонне Трафальгарской площади, например? В соответствующем, конечно, веке. Нельсон на колонне в серой дымке душноватого дня был похож на отчаявшегося регулировщика, с безразличием и презрением отвернувшегося от хаоса у него под ногами. Движение остановилось окончательно. Время тоже. Все предопределено. Отец выбрал. Сын родился. Если бы отец не выбрал, сын бы не родился. И не оказался бы в Лондоне. В этой страшной пробке.