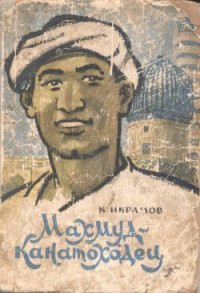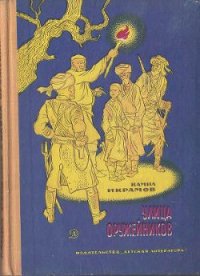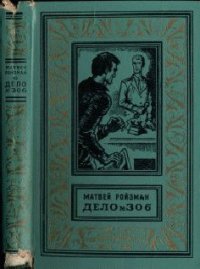Дело моего отца (Роман-хроника) - Икрамов Камил Акмалевич (читать книги бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
— Что такое БГСО? — мог спросить отец, глядя на фотографию сына с непонятным значком на бархатной курточке.
— БГСО — Будь готов к санитарной обороне СССР, — могли объяснить ему и добавить: — А ведь все может быть иначе…
Я почему-то запомнил отца суровым и сдержанным. Но все в один голос, начиная от знаменитого профессора И. А. Кассирского, лечившего меня в детстве, и кончая милиционером Ефремовым, охранявшим наш дом, говорят, что отец обожал меня, трясся надо мной и сходил с ума, когда я болел или долго не возвращался домой. Может, угрожая моей жизни, заставили его быть послушным?
Не могу отвязаться и еще от одного страшного предположения. Не замучили ли они на глазах жертв процесса одну из известных им всем женщин? Почему-то я всегда думаю о вполне реальном человеке — жене старого коммуниста Николая Антипова [19], уже упоминавшегося мной в этой работе.
Я помню ее в серой шубке с пуговицами, похожими на срезы древесных сучков. Говорят, это было модно. Она казалась мне очень красивой и подарила мне автомобильные гонки — заграничную игрушку. Звали ее тоже интересно — Степа.
Она приезжала с мужем в Ташкент, когда мы жили еще на Уездной. Н. К. Антипов потом ведал, кажется, еще комитетом по физкультуре и спорту. Как-то я оказался у них на даче зимой. Там была комната И. Д. Папанина, он жил на даче Антипова, подарил тому шкуру белого медведя.
Последний раз я помню Степу в гостинице «Москва» Очевидно, это май — июнь [20] тридцать седьмого.
Она пришла какая-то бледная, и отец выставил меня в соседнюю комнату нашего огромного номера.
Из любви к тете Степе я крутился поближе к двери.
— Ты понимаешь, они пришли, все перерыли… Помнишь, всем нашим рассылали для сведения «Майн кампф»? Они схватили и тычут мне в нос. Помнишь, ведь всем членам правительства рассылали?
— Да.
— Акмаль! Пойди к нему! (Я понимал тогда: речь идет о Сталине.) Скажи ему. Ты же знаешь, что Николай не виновен.
— Я ничего не могу сделать.
— Но ты же понимаешь…
— Понимаю. Я ничего не могу сделать.
— Но он ведь тебя любит. Он же тебя обнимал в театре.
— Пойми, Степа, я ничего не могу сделать.
Когда тетя Степа вышла, я выглянул в коридор. Она шла по ковровой дорожке, как пьяная. Ее шатало от стенки к стенке.
Степа исчезла бесследно.
Мало ли жен исчезли бесследно в те годы, но я все время думаю о ней.
И еще я думаю, что отец не сказал ей: «Если его взяли, значит, он — сволочь». А ведь в эти самые дни мать сказала так. Мать и отец незадолго до ареста думали по-разному. Есть и другие тому свидетельства. Например, еще один рассказ 3. Д. Кастельской.
— …Это было в самом начале весны тридцать седьмого. Отец решил погулять вечером, а я собиралась домой. Мы пошли вместе.
— Скажите, Акмаль, что же это? — спрашивала я о сенсационных арестах тех дней, а он отвечал как-то очень неопределенно, а потом вдруг обернулся ко мне и сказал: — Неужели, Зинушка, вы не понимаете, что если я завтра скажу, что вы троцкистка, то поверят мне, а не вам.
— Что вы говорите! При чем здесь это?
— Если я скажу, что вы троцкистка или еще что-нибудь, то поверят мне. Вам уже никто не поверит. Понятно? — раздраженно спросил отец.
— Что вы говорите! Что вы говорите!
— Ладно, — сказал отец. — Хватит. Я вам ничего не говорил.
Прежде чем закончить рассказ о том, как я читал стенограмму процесса, — еще две цитаты.
Из последнего слова Н. И. Бухарина:
«…Мне кажется, что когда по поводу процессов, происходящих в СССР, среди части западноевропейской и американской интеллигенции начинаются различные сомнения и шатания, то они в первую очередь происходят из-за того, что эта публика не понимает того коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, что это нужно в первую очередь понять.
Я позволяю себе на этих вопросах остановиться потому, что у меня были за границей среди этой квалифицированной интеллигенции значительные связи, в особенности среди ученых, и я должен и им объяснить то, что у нас в СССР знает каждый пионер.
Часто объясняют раскаяние различными, совершенно вздорными вещами вроде тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу, в тюрьме, в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохранил голову. Это есть фактическое опровержение всех небылиц и вздорных контрреволюционных россказней.
Говорят о гипнозе. Но я на суде, на процессе вел и юридически свою защиту, ориентировался на месте, полемизировал с государственным обвинителем, и всякий, даже не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть».
Подумать только, как обстоятельно и последовательно Бухарин опровергает измышления западных профессоров, объясняет им то, что «у нас в СССР знает каждый пионер».
Интересно, кто писал ему этот текст? Неужто Лев Романович Шейнин не знал, кто это писал? Неужто мы не вправе знать это, как это было на самом деле?
Почему же не спрашиваем?
Перечитывая, не могу отделаться от представления, что этот текст писал или лично продиктовал сам Сталин. Его фразеология, его интонация. Впрочем, и у Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите» я ее услышал. Очень я доверяю собственному слуху и прошу за это прощения у читателя.
«Очень часто объясняют эти раскаяния достоевщиной, специфическими свойствами души (так называемой l'âme slave) [21], что можно сказать о типах вроде Алеши Карамазова, героев „Идиота“ и других персонажей Достоевского, которые готовы выйти на площадь и кричать: „Бейте меня, православные, я — злодей“.
Но здесь дело совершенно не в этом. В нашей стране так называемая l'âme slave и психология героев Достоевского есть давно прошедшее время, плюсквамперфектум».
Дочь Николая Ивановича — ученый, историк, кандидат наук, уверена, что ни одна фраза в последнем слове Бухарина ему не принадлежит. Мне и то кажется, что стилизация под Бухарина здесь очень недостоверна. Слишком уж он усердно проявляет эрудицию.
«Такие типы, — продолжает он в стенограмме, — не существуют у нас, они существуют разве на задворках маленьких провинциальных флигельков, да вряд ли и там существуют. Наоборот, в Западной Европе имеет место такая психология.
Я буду говорить теперь о самом себе, о причинах своего раскаяния. Конечно, надо сказать, что и улики играют очень крупную роль. Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. Почему? Причина этому заключалась в том, что я в тюрьме переоценил свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись. И, наоборот, все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня в конце концов разоружило окончательно, побудило склонить свои колени перед партией и страной.
И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки для чего?»
Ни о чем не прошу, только — читайте внимательно.
«Изолированный от всех, враг народа, в положении нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть жизни… И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь, остатки озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей, они снимаются, они исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и получается полная внутренняя моральная победа СССР над своими коленопреклоненными противниками. Мне случайно из тюремной библиотеки попала книжка Фейхтвангера, в которой речь идет относительно процессов троцкистов».