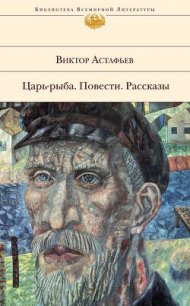Царь-рыба - Астафьев Виктор Петрович (читать книги онлайн полные версии .txt) 📗
Эля не то чтобы испугалась, а внутренне ослабела, притихла, когда Аким, дождавшись, чтоб она была в здоровом уме и твердой памяти, взялся разбирать имущество Герцева. Оттого, что охотник долго не притрагивался к чужому рюкзаку и наконец вытряхнул на пол вещи и раскладывал их так, словно итог чему-то подбивал, она утвердилась в мысли: Герцев из тайги не вернется.
Аким строго и отстраненно вынул из целлофанового пакета документы, разложил их на столе: красный диплом отличника, красный же военный билет, паспорт в кожаной обложке прибалтийского производства, нарядный беленький билет члена Всесоюзного общества охраны природы, трудовую книжку, пачку квитанций на денежные переводы в Новосибирск – алиментная подать. Вузовский, совсем новый «поплавок», похвальный лист, и медаль «За спасение утопающего», и разные справки, средь которых хранился зачем-то старый-престарый трамвайный билет с однозначным, «счастливым» номером, увидев который Эля заплакала. Акиму вспомнилась присказка Афимьи Мозглячихи, говоренная не раз по поводу существования касьяшек: «Овца не помнит отца, сено ей с ума не идет».
Стянув тугой красной резинкой кипу бумаг, Аким дождался, когда Эля успокоится, и не пододвинул, а подтолкнул к ней пальцем тугую пачку документов:
– Вот, – отворотившись, молвил он, – выйдем – сдадите и заявите о пропаже человека. Я не стану этого делать. Меня уже разок таскали следователи, хватит!..
И то, что Аким перешел на «вы», сделался боязливо-суровым, смутило Элю, потому что за этой суровостью угадывались подавленность, смущение, и деланное спокойствие не могло их прикрыть.
– Аким, где он? – боясь отчего-то притронуться, показала Эля на пачку бумаг, будто перечеркнутую кровавой полоской.
– Не знаю, – помедлив, отозвался Аким и, еще помедлив, обнадежил: – Но я узнаю. Скажу.
Вещи покойного, в особенности палатка, топор, нож, острога, пачка сухого спирта, бритва, запасные портянки, были необходимы охотнику и Эле, могли пригодиться и тем, кто набредет на таежное зимовье. Лишь стопка общих тетрадей, сшитых рыбачьей жилкой, ни к чему, бросовая вещь.
– В печь?
– Н-нет! – встрепенулась Эля и, отчего-то смущаясь, заспешила: – Может, там записи последние есть, может, ценное чего по геологии? Может, объяснится что? И потом, все равно читать нечего… – и обрадовалась возможности уйти с разговором в сторону: – Ты почему книжек с собой не взял?
– Некогда читать промысловику. – Аким перематывал нитки, руки его были заняты, и он кивнул головой, заставляя помогать ему трудиться. – Со стороны, пана, всякая работа, таежная в особенности, удовольством кажется: бегат охотник по лесу, постреливат, собака полаиват… Ты видела кое-што, да не все. Если бы я как следует занялся промыслом, мне надо было бы наготовить кубометров двадцать дров – зимой с ними некогда возиться. Запасти накрохи. Хорошо, если завалил бы сохатого, дак десятка два выставил бы капканов, не повезло бы с сохатым, наладил бы пасти, кулемы, ловил бы рыбу, квасил птицу. Ловушки – хочешь ты не хочешь, здоровый ты или больной – сдохни, но каждые сутки обойди, замело снегом – откопай, наживи. И пожрать надо хоть разок горячего, оснимать шкурки, высушить, снарядить патроны, избушку угоить, рукавички, то да се починить, да и самому не заослеть, мыться, бельишко стирать, волосье лишнее убрать – накопишь добра, ну и собаку кормить следует, пролубку на речке поддалбливать, без воды чтоб не остаться – снегу не натаешься. Ко всему не угореть и не обгореть, не захворать… – Он приостановился. – Упаси бог заболеть одному. Один и подле каши загинешь…
– Да-да, – тряхнула головой Эля. – Это мне можно не рассказывать. Но отчего же… Отчего охотятся в одиночку? Вдвоем же удобней, лучше!..
– У меня друг, Колька, на Пясине втроем были, дак загрызлись. Не уживаются вместе нонешние люди, тундряная блажь на их накатывает.
– А раньше?
– Раньше, видать, нервы у людей были покрепче. Может, в бога веровали – сдерживало. Да тоже послушаешь, всяко лихо деялось – резались и стрелялись, а то скрадом доводили сами себя. Тихий узас!..
– Как это?
– А так. Осатанеют до того, что убить готовы один другого, а нельзя: убьешь – пропадешь или бог покарат. Тогда оне преследовать друг дружку возьмутся, охоту всякую забросят, не спят, шарахаются от каждого сучка, оно и с ума сойдет который. А скрадет который которого, поранит, на себе в избушку ташшыт, лечить начинает, богу молиться о спасении, иначе тюрьма.
– Да что же это такое?
– Жись в тайге о-очень хитрая, пана, много сил, терпенья и, не смейся, не смейся, ума требует.
– Да какой уж тут смех? – Эля вдруг спохватилась: говорит Аким почти чисто, не сельдючит, голос его, отмякший, какой-то проникновенный, доброжелательный, будто он наставляет послушного, отзывчивого слушателя школьного возраста, и качнулась, покатила по ней волна ответной благодарности к человеку, заменившему ей все живое на свете. До сего момента она хоть и говорила ему спасибо, однако воспринимала все как само собою разумеющееся, как должное – одна в тайге, больная, беспомощная, так спасай, помогай, посвяти себя, раз ты человек. А где, собственно, и кем это написано иль указано – спасай, помогай, забудь о себе и делах своих, да и все ли способны помогать-то бескорыстно?
Вот они, бумаги, документы! А что за ними, за этими хорошо сохраненными документами, скрыто? Хозяин их и хранитель был напористо-открытый, вроде бы великодушный и в то же время неуловимый, загороженный усмешкой, неприязненно грубый с людьми, он как бы приподнял себя над условностями бытия, напустил на свой лик дымку значительности, и этого достало, чтобы другие не то чтобы мелочью себя почувствовали в сравнении с ним, но почитали в нем силу и емкость души. Доверилась же вот она ему, сразу, непрекословно. В первый же день, именно в день, не дождавшись ночи, там, в чушанскои мастерской, он заграбастал ее, подмял, словно так и не иначе и должно быть, затем водил ее за собой будто овечку, плел-говорил самодельные умности, а она, простушка-аржанушка, слушала его, внимала. Парализующая сила исходила от Герцева, даже не сила, а собственная уверенность в ней.
Молода, ох молода была Эля и глупа, ох, глупа! И непамятлива, и доверчива: вот много ли времени прошло со встречи, а не помнит уже лица Герцева, не может представить его ясно, отчетливо. В хвори сгорел, видать, его образ, пепел остался в душе и перед глазами, и в памяти что-то расплывчатое. А может, он и был таким расплывчатым, неоконтуренным. Одно она явственно помнит – его руки. На них, на этих крепких, все умеющих руках, засучены рукава; сжатые в полугорсть, готовые в любой миг схватить, сгрести, придавить, загорелые, искрящиеся волосом, с толстыми продольными жилами – очень выразительные были руки, оттого и запомнились, должно быть, и. как выяснилось, навсегда. А еще что? Слова, слова, слова! Много слов, тоже вроде бы что-то значительное скрывающих за собой. Эля попыталась приподняться, заглянуть за скобки слов – за ними оказалась пустота. …
Это случилось, точнее началось, – после того перехода, когда, подбив ноги, Эля нежилась в палатке, а Герцев ладил еду, мимоходом сунув в палатку букетик снежно белых таежных ветрениц, которые, как он объяснил, на нормальных землях давным-давно отцвели, здесь же, на мерзлоте, в иных углах все еще начало лета. «Любимые цветы моей покойной родительницы», – как всегда, криво усмехаясь, объяснил он и после обеда запропал где-то. Явился мокрый, уработавшийся.
– Ты не месторождение ли, случаем, ищешь?
– Что ж? – отозвался Гога. – Не худо бы подарить государству золотой, допустим, приискочек и навсегда рассчитаться – учило, кормило, моралью пичкало – не люблю быть должником. И попадается золотишко, широко попадается, да все это семечки. Вот, – бросил он спутнице узелок. – Никогда не видела?
Эля с любопытством развязала тряпицу. Золотинки напоминали блестки жира, снятые с топленого молока, уже старого, затемнелого, сохлого, чешуйчато прилипли они к тряпице, не горели, не сияли. «Люди гибнут за металл!» За этот вот?