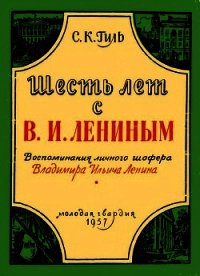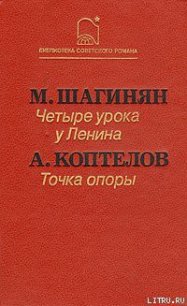Перед прыжком (Роман) - Еремин Дмитрий Иванович (электронные книги бесплатно txt) 📗
В такую пору степь становилась зеленой и желтой, кроваво-красной от горько-соленых трав, и фиолетово-синей, и грязно-бурой, но все равно прекрасной для степняка — будь он крестьянин или кочевник.
Теперь здесь затаборились дружины косцов, темнели крытые камышом просторные шалаши. По вечерам повсюду окрест горели костры. Ночью лошади звучно фыркали под безоблачным звездным небом. А чуть розовел рассвет — между суховатыми гривками длинных узких увалов и в западинках возле озер — вновь начинали посвистывать косы. На просторных местах кружились по длинным эллипсам конные косилки. За ними до самого горизонта протягивались валки свежескошенной травы. Часть ее после просушки копнили и укладывали в стога до новой травы, остальное свозили к прессам, работавшим в разных концах степи от утренней зари до вечерней.
Как масло на горячей сковороде, с каждым днем все заметнее уменьшались, таяли стога — и те, что были сметаны только что этим летом, и те, что были навиты вокруг разъезда по всей степи еще в прошлое лето. Вскоре от многих из них остались лишь зеленовато-серые засоры. Другие — все ниже оседали к земле, прогрызаемые с боков или разворошенные вилами сверху, чтобы пойти в прессовочные машины.
Шумнее всего было возле разъезда. Вокруг трех мощных прессов, понуждаемые погонщиками, весь день устало ходили по кругу с завязанными глазами выносливые казахские лошаденки, таща за собой похожие на оглобли длинные рычаги ходовых передач.
У ближнего к вокзальчику пресса лошадь попеременно подстегивали, чтобы она резвее шла, неразлучные Зина и Клава. На шумной ярмарке в Славгороде они успели заложить свои места на верхних нарах мешками с мукой и другими продуктами так, что спать теперь приходилось почти упираясь лбами в крышу вагона. А кое-что из Филатычевых богатств у них еще оставалось в запасе.
Но это уже на дорогу домой, — решили девчонки, посовещавшись. Лишь бы скорее назад уехать. А как и когда уедешь? До дома — ух далеко, а всякие «заградиловки» — ух как близко! Вдруг да в теплушку войдет какой посторонний, взглянет: «Много, девки, везете…» Страшно об этом подумать… В Скупино обе ехали то замирая от страха, что именно так вот вдруг и случится, то чаще как бы почти невесомо паря на крыльях ликующей радости, оттого что, слава те господи, — наменяли! У каждой — пудов по двадцать белой муки. Да сало топленое в двух пузатых корчажках. Да по мешку отборных подсолнухов — будет что полузгать дома зимой. Да каждой по валенкам баба одна за пару царских пятисотенных бумаг отдала. Валенки — новенькие, по ноге. Придет зима, ничто нипочем…
Ходить целый день за лошадью под палящим солнцем было жарко, утомительно, однако девчонки работали добросовестно, в отличие от «рыжиков» — Половинщикова и Кобякова, которые были погонычами у второго пресса, где командовал рассердившийся после ссоры с Малкиным на весь свет Игнат Сухорукий.
У третьего, самого дальнего, «копыловского» пресса четырехногим «движком» ведали Филька и Вероника.
Железо прессов звенело и скрежетало. Ровные охапки сена одна за другой двигались по металлическим рамам к прессовой камере. Нажимные плиты туго стискивали их, и в это же время ловкие руки бригадиров успевали захлестнуть готовые кипы крест-накрест проволокой.
Полуторааршинные брикеты выталкивались из пресса на землю. Их подхватывали железными крючьями другие рабочие или казахи-подсобники, волокли двухпудовые кипы прочь — к другим спрессованным кипам.
Когда лошади в изнеможении останавливались, не в силах больше крутить скрипящие шестерни, их заменяли другими, и всякий раз при этом, разморенные жарой и утомительным движением по кругу, «рыжики» просительно обращались к Сухорукому:
— Игнат Митрич, ослобони! Сил наших нету! Пущай кто другой хоть на часик…
Но озлобившийся на весь мир Сухорукий сердито, почти исступленно кричал в ответ:
— Давай, говорю, давай! Поехал на сено? Вот и работай! Мы не враги, как считает Малкин. Ишь чего захотели! Я из вас лень-то выбью! Я докажу, кто из нас пролетарий! Давай поворачивайся…
И вновь час за часом выносливые лошаденки ходили по кругу, и снова «рыжики» покорно плелись за ними с погоночными дрючками в руках.
Ровно скрипели и, словно собаки, тонко повизгивали шестерни. Звенело и скреблось до блеска отшлифованное железо. Крутилась и схлестывалась в руках прессовщиков проволока. Тяжелые кипы сена вываливались на землю, к ногам подсобных рабочих, и вдоль вагонов, по всей длине разъездного пути, день за днем росли груды этих тяжелых, как камни, но остро пахнущих степью блоков и пирамид.
Большую их часть грузили на железнодорожные платформы для отправки туда, где была в них нужда. Из остальных выкладывались квадратные и высокие, как дома, вместительные закрома-времянки для приема урожая, ожидаемого из ближайших деревень и сел.
Руководивший работой уполномоченный Омского ревкома Тарас Кузовной — быстрый, жилистый, забывший о сне и отдыхе тридцатидвухлетний матрос в изношенных брюках клеш и мокрой от пота просолившейся тельняшке, с парабеллумом на правом бедре, — неутомимо мотался по степи на пегом коньке, подбадривал, подгонял, умолял и требовал:
— А ну, братва, веселей! Времени у нас нехватка: вот- вот и начнут подвозить зерно. Так что давай! Поднажми, ребята…
Лето стояло погожее и сухое. Солнце с утра выходило из-за широкого горизонта в чистое небо и потом весь день до заката плыло по нему открыто, посверкивая лучами на отполированных плоскостях машин, на убегающих за горизонт рельсах, а за разъездом — на обрамленных зарослями камыша зеркалах озер.
Там, над пресной и солено-горькой водой, кружились стаи диких гусей и уток. Они то сыпались с неба в воду, как будто кто-то бросал пригоршни черных семян, и тогда по ее зеркалам скользили тысячи серых и темных точек, то снова взмывали в небо и там кружились и перекликались, зовя друг друга в степь, на поля крестьян, на кормежку.
Машинист паровоза, время от времени пригонявший в Скупино цистерну питьевой воды и пустые платформы для загрузки их прессованным сеном, быстренько загонял паровоз с платформами на запасной путь, и пока рабочие загружали их, отправлялся со старенькой одностволкой к озерам. В шуме работы выстрелов не было слышно. Но час-полтора спустя машинист возвращался, увешанный дичью, усталый, но и счастливый. А перед тем как уехать, всякий раз оставлял Кузовному либо пару кряковых уток либо гуся.
— Подкормись, Михалыч, — говорил он при этом. — Небось с утра ничего не ел…
Юрты казахов, верблюды и лошади которых были мобилизованы для работы на этом разъезде, стояли в полуверсте от железной дороги на плоской сухой поляне между небольшим озерком и лесом. Одинаково одетые в поношенные бешметы, темные шельбары, с круглыми шапочками на бритых головах, степняки вначале казались приезжим похожими друг на друга, как близнецы, особенно в первые дни, когда каждое из становищ — рабочие — у вагонов, казахи — возле своих очагов — держалось особняком. Потом работа стала сближать их. Любопытство тянуло степняков к вагонам, рабочих — к юртам. Начались расспросы, общие разговоры, пошло обращение по именам. Вечерами возле вагонов стали засиживаться степняки, расспрашивая, что делается в России, а возле казахских юрт в час ужина засиживались рабочие, с наслаждением лакомясь варенными в кипящем кобыльем сале кусочками баурсака или колобками бараньего сыра, курта.
Особенно зачастил к казахским кострам прожорливый Филька.
Одновременно шел и обмен — не только с казахами, но и с крестьянами из ближних селений. Каждый день у состава шипели на сковородках яичницы, булькали в ведрах и в котелках мясные супы и каши, исходили паром закопченные чайники.
Подсаживаясь к кострам, загорелые до черноты степняки молча прислушивались к разговорам и песням, присматривались к тому, как едят москвичи. Один из них — низкорослый, неопрятный, с трахомными веками — особенно пристрастился к костру у бабьего вагона. Обращаясь то к одной, то к другой из женщин, скаля в улыбке желтые зубы и смачно причмокивая, он не то шутя, не то всерьез предлагал: