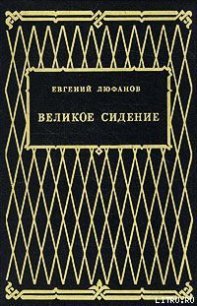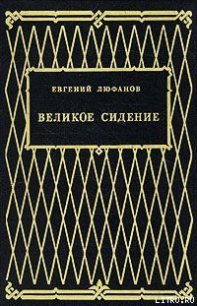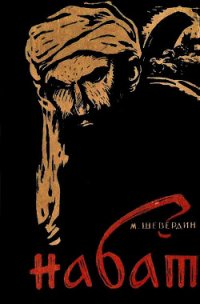Набат - Люфанов Евгений Дмитриевич (читать книги полностью без сокращений .TXT) 📗
Пестрая круторогая корова, шумно вздохнув, шарахнулась от кустов.
— Фу, дьявол... Аж в пот ударило... — выругался Василий, вытирая рукавом лоб.
Старик Агутин и Алексей были тоже на ногах и настороженно осматривались по сторонам. Гулким выстрелом щелкнул бич пастуха.
— Кыря!.. Гей!.. — крикнул он.
Багрово-оранжевый ком заспанного, словно опухшего солнца выползал за Волгой, нехотя отрываясь от земли. Василий сделал несколько осторожных шагов и вышел на край поляны, по которой рассыпалось стадо коров. На пригорке сидел пастух, парень лет семнадцати, с забрызганным веснушками лицом. Обломком косы он что-то мастерил из березовой чурки и, увлеченный своим делом, не заметил, что в нескольких шагах остановился человек и внимательно осматривает его из кустов. Пастух был в почерневших, изрядно поношенных лаптях, в старых штанах из мешковины, в потрепанном сермяжном кафтанишке. На голове—валяный бурлацкий шпилек с дырявым верхом.
— Эй, парень!.. — окликнул его Василий.
Пастух обернулся и с удивлением посмотрел на забредшего сюда солдата.
— Один пасешь?
— Один. А что?
— Разговор к тебе будет, — шагнул Василий к нему.
Пастух отложил чурку в сторону.
— Садись, поговорим. А ежель табачком, солдат, угостишь, — вот беседа у нас пойдет — так беседа уж!
Солдат на это ничего не ответил, а уставился взглядом на его лапти. Что такое увидел в них?.. Пастух отодвинулся подальше и поджал под себя ноги.
— Разувайся, — неожиданно сказал солдат.
— Чего?
— Разувайся, сказал, — повторил Василий.
— Разуваться?.. А зачем разуваться?..
— Значит, надо — зачем.
Пастух оторопело, ничего не понимая, смотрел на солдата, а тот наскоро стаскивал с себя сапоги.
— Поменяемся, парень, с тобой.
Крепкие, почти новые кожаные сапоги солдат хочет сменять на разбитые лапти... Мерещится, что ли, такое? Нет, не мерещится.
— На, держи.
И солдат сунул ему, пастуху, свои сапоги с портянками прямо в руки. Спросил:
— Портки дашь в придачу?
— Портки?.. А как же самому-то мне быть?
— Исподние есть?
— Кабы были-то...
— Ну, кафтан напялишь, прикроешься. Только портки обязательно в придачу давай.
Пастух покосился на винтовку: добром не снимешь пристрелит либо приколет штыком. Крикнуть?.. А кто услышит? Солдат за это прикладом голову размозжит... Дрожащими пальцами стал разматывать онучи и разуваться, стягивать с себя штаны.
Василий забрал все и строго сказал:
— Ври дома, как хочешь, но никакого солдата ты видом не видал, слыхом не слыхал. Понятно такое тебе?
— Еще как понятно-то, — не поднимая глаз, ответил пастух.
— Обидеть я тебя не обидел и за выручку спасибо скажу. А теперь прощевай.
Пастух смотрел на сапоги и все еще не верил своим глазам. Кожаные, почти новые сапоги! Кроме лаптей никогда ничего не носил. Примерил один сапог, другой — в самую пору пришлись, как раз по ноге. Деготьком смазать их, чтоб блестели, да в праздник по деревне пройтись — ахнут все!.. Только бы не вернулся солдат, не отнял... Оглянулся с опаской — нет, не видно его, ушел. Сердце забилось взволнованно, радостно. Кафтан запахнуть можно будет получше да кнутом опоясаться, — срамоту и прикрыть.
— С обновкой, никак? — взглянул Агутин на возвратившегося сына и укоризненно покачал головой. — Эх, Васятка, Васятка... Видать, такой же ты беспутевый, как твой отец. Сапоги-то можно было продать, капитал денег выручить, а ты их за такую рвань отдал.
— Кончил солдат цареву службу служить, и дороже этих лаптей да портков ничего, батя, нет. Жалеть не об чем. Теперь остатнюю амуницию к шаху-монаху сбыть, чтоб глаза не мозолила.
Он скинул с себя солдатскую рубаху и штаны; вместе с бескозыркой закатал все в шинель и выискивал глазами место, куда сунуть сверток.
— В Волгу, — подсказал Алексей.
— И то, — согласно кивнул Василий, прихватывая ремнем скатку к винтовке.
И канули с крутого берега в глубину волжского омута все солдатские доспехи.
Галахи, голь перекатная, не иначе как пропившиеся вдрызг бродяги, шли задворками какой-то деревни. Двое еще кое-как одеты, а один — только в лаптях да в портках из грязной и обветшалой мешковины. Ни рубахи на нем, ни голову ему нечем прикрыть.
— Пообождите, ребята, тут. Мне, старику, сподручней под окошко пойти попросить. Авось сжалится добрая душа, тогда чего-нибудь пожуем. Вон изба справная. Может, хоть картошками разживусь, — сказал Агутин и, оставив Алексея с Василием за плетнем огорода, пошел к справной избе.
Сняв шапку и кланяясь, постоял под окнами, но никто его не приветил. Пошел к двери постучаться, а она на замке.
— Сибирский твой глаз, сразу же незадача.
Вернулся к своим ни с чем, а Василий, узнав, что хозяев нет дома, не долго думая, махнул через плетень и устремился к огородному пугалу, на котором висел долгополый дырявый армяк и торчала старая соломенная шляпа. Оголив остов пугала, напялил армяк на себя, нахлобучил на голову шляпу и заторопился назад.
— Ну, что ж, ничего... — благосклонно сказал Агутин. — Хозяева, может, и пообидятся на такой грабеж, а мы будем считать, что в этом грех невелик. Вот ты, Васятка, и окапировался теперь, — повеселевшими глазами смотрел он на сына. — Можно, значит, нам и в бурлаки подаваться.
Груженная солью и кулями с вяленой воблой, баржа медленно продвигалась вперед. Привязанная лодка тянулась за ней, поплескивая днищем по мелким волнам.
— А ну — сильней, еще сильней... — нараспев выкрикивал с баржи старший по бурлацкой артели, водолив и плотник, отвечающий за сохранность груза.
Впереди по береговой тропе шли двое бывалых бурлаков, не один раз топтавших волжские берега от Астрахани до Нижнего. За ними, во второй паре, — Василий и огненно-рыжий, гривастый дьякон-расстрига. Через два ряда от них — Алексей и похожий на цыгана, молодой красивый мужик с черными, вьющимися кольцами волосами. Старик Агутин тянул лямку в самом хвосте, в паре с болезненным худощавым парнишкой. Их обоих водолив принял в артель без задатка, обещая лишь кормежку в пути.
Широкий нос баржи нехотя раздвигал воду, и вода лениво расступалась на стороны, поплескивая по деревянной обшивке бортов. Встречный ветер сдерживал ход, но, налегая грудью на лямку, тяжело передвигая ноги по бурлацкой тропе, вереница людей тянула просмоленный канат, и баржа тащилась вдоль кромки берега.
— А вот сильней, навались сильней!.. — выкрикивал водолив.
Шлепая плицами колес по воде, вверх по реке поднимались пароходы, густо дымя и взвывая гудками. Они тянули за собой тоже баржи, плоты; небольшой, черный, как жук-плавунец, буксир тащил двухпалубную пассажирскую пристань.
— Ходко идет, — завистливо смотрели ему вслед бурлаки. — Верстов по десять в час делает. Живо до Симбирска, гляди, добежит.
— На нашем пару за ним не угонишься. Вон уж куда завернул! Подчалил бы нас к себе.
— Не завиствуй, парень. Машина — она погибелью нам обернется. Скоро и побурлачить нигде не представится. Чего тогда делать? Куда идти?..
Волга вскипала рябящей зыбью. На ней плавилось солнце, расплескиваясь по воде ослепительно яркими бликами.
У отмели серебристыми блестками кружилась стайка мальков. Распугав их, из прибрежных камышей стремительно метнулся большой полосатый окунь, мелькнув радужной окраской плавников.
Большие стрекозы с голубыми и синими крыльями кружились над водой, то припадая к ней, то поднимаясь и, трепеща крыльями, неподвижно повисали в воздухе. Одна из них села на плечо Алексея и замерла, пронизанная солнечным лучом. Ее спугнул гудок парохода. Вниз по реке за буксиром проплывал караван барж. На одной барже стоял маленький, словно игрушечный домик, и под его окошком сидел щеголевато одетый парень — либо приказчик, либо хозяйский сынок — и тренькал на балалайке.
Пройдут низовые и верховые пароходы, и снова перед глазами медленно бредущих бурлаков пустынный волжский простор. Длинна речная дорога, не скоро конец пути.