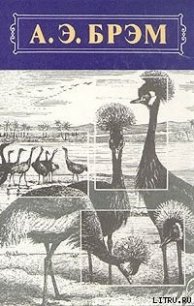Мика и Альфред - Кунин Владимир Владимирович (книги онлайн без регистрации полностью TXT) 📗
Мика твердо знал, что если маму можно было «напарить», выдавая чужие стихи за свои, то с интеллигентным папой этот номер может не пройти. Оставалось только надеяться на древний возраст журнала.
— Сереженька!.. — Импульсивная мама бежала по коридору, волоча за собой Мику. — Ты посмотри — какие стихи!.. Это же просто уму непостижимо! Посмотри, какая прелесть!..
Папа еще не успел отойти от входной двери. Он поцеловал маму, ласково шлепнул Мику по загривку и только потом взял в руки листок с четверостишием.
— Ну?! — Мама сияющими глазами смотрела на папу. Папа очень по-доброму улыбнулся маме и Мике и сказал:
— Стихи очаровательные. Мало того, когда-то, много лет тому назад, я даже был знаком с их автором. По-моему, впервые они появились году в четырнадцатом…
Тут Мика понял, что сгорел окончательно, и решил резко изменить курс — авось вывезет…
— В двенадцатом, — поправил он папу.
— Где ты их разыскал? — еще ничего не понимая, спросил папа.
— В «Аргусе», — ответил Мика, стараясь не смотреть на маму. Растерянная, еще не верящая в произошедшее, мама была оскорблена в своих лучших чувствах, гордость ее была растоптана, она была безжалостно унижена собственным сыном! И собственным мужем.
Мике стало вдруг нестерпимо ее жаль, он готов был броситься перед ней на колени, целовать ей руки, умолять о прошении, обещать, что подобное больше никогда не повторится…
Но ничего этого сделать он не успел. Он получил от мамы такую затрещину по физиономии, что пропахал на заднице чуть ли не полкоридора.
Ни в детский дом отдыха «Литфонда», ни в Терийоки — в спортлагерь Городского комитета физкультуры Мика Поляков так и не попал. И история с чужими стихами была тут совершенно ни при чем…
Спустя всего две недели после той затрещины на невиданных доселе запасных путях Московского вокзала, стоя у одного из пассажирских вагонов эшелона, уходящего в неведомые края под названием ЭВАКУАЦИЯ, мама, некрасивая мама, с опухшими от слез глазами, бледная и измученная, может быть, впервые не думающая о том, как она сейчас выглядит, прижимала Мику к груди, истерически зацеловывала и все что-то шептала и шептала…
А рядом с трясущимся подбородком стоял папа и пытался ободряюще подмигивать Мике. Но получалось у него это нелепо и жалко. Проглядывала фальшь в этом неумелом подмигивании. И Мике было даже немножечко стыдно за своего отца — пусть не очень известного кинорежиссера, даже не орденоносца, но бывшего военного летчика, кавалера Георгиевских крестов, ближайшего друга какого-то легендарного князя Лерхе, черт-те когда канувшего в вечность…
Жалко было и маму. За то, что по ее лицу растекались черные ручейки туши, а подбородок был испачкан размазавшейся губной помадой…
За то, что ему, Мике, вот в эти минуты довелось увидеть ее не блистательно остроумной, резкой, самоуверенной и ироничной, а беспомощной, безвольной и неожиданно очень обычной «бабской» женщиной…
Не знал Мика, что всего за три дня до начала войны, девятнадцатого июня, врачами той же больницы Эрисмана, где в прошлом году лежал Мика, маме был поставлен страшный диагноз неизлечимой тогда болезни. А к концу июля ей уже была назначена, наверное, бесполезная операция, и поэтому мама не могла уехать из Ленинграда вместе с Микой.
Скорее всего мама предчувствовала свой уход из этого мира, понимала, что в тридцать восемь лет для нее обрывается все: она теряет сына, мужа, которого, несмотря на все и всех, боготворила и ревновала к любому фонарному столбу, что для нее вот-вот исчезнет то, что постоянно окружало ее во времена не всегда праведной, но всегда яркой и прекрасной жизни…
И еще одно. Стыдно было признаваться в этом даже самому себе, но Мика уже мечтал о том, чтобы эшелон тронулся как можно быстрее, чтобы мама и папа остались бы там, на запасных путях Московского вокзала, а он, Мика Поляков, наконец начал бы совершенно новую и самостоятельную жизнь.
Он знал — война скоро кончится, он вернется домой и снова попадет в зависимость к взрослым людям: педагогам, тренерам и вагоновожатым, к участковому милиционеру Васе и управдому, к любому уличному прохожему, которому вдруг покажется, что Мика ведет себя не так, как хочется этому прохожему. Снова и целиком будет зависеть от мамы и папы…
Сейчас ему представился случай хоть ненадолго освободиться от такой зависимости. Несмотря на весь трагизм ситуации, Мика воспринимал ЭВАКУАЦИЮ примерно так же, как несколько видоизмененную поездку в спортивный лагерь. Единственное, что его настораживало и заставляло сомневаться в чистоте своих вольнолюбивых помыслов, это обилие мужчин с трясущимися руками и подбородками и огромное количество женщин, рыдавших над своими уезжающими детьми.
… А потом были три месяца жизни в лесу под Гавриловым Ямом, что неподалеку от Ярославля. Барак для малышей с бабушками и мамами, второй барак для расхристанной вольницы от восьми до двенадцати лет, промышлявшей грабежами соседних деревень, огородов и садов, а в торцовых закутках этого барака — воспитатели из отдела народного образования Куйбышевского района города Ленинграда. Со своими детьми, со своими бедами, да еще с сотней подопечных, сорвавшихся с родительской домашней цепи, которых, будто моровая язва, захлестнула эпидемия воровства и мелкого разврата.
Ну и третий барак — Микин. От тринадцати до шестнадцати.
И мальчики, и девочки старшего возраста жили в одном бараке, разделенном тонкой стенкой из неструганых досок, с узким проходом из одной половины в другую, охраняемым лукавым мздоимцем дневальным.
Этот барак буквально вспухал от сумасшедших любовей, от диких сцен ревности, от невероятных и фантастических сплетен, от жестоких и беспощадных драк — этаких «брачных» боев осатаневших от зова плоти юных самцов…
А еще были «заговоры», предательства, попытки гомосексуализма, какие-то грязноватенькие девичьи «дружбы» среди девчонок-дурнушек.
Среди старших девочек-симпатяг даже процветала примитивная и неумелая проституция, возникшая от постоянного недоедания и извечного нормального животного любопытства.
Замученные и задерганные роновские тетки — воспитательницы старшего барака жили своей несчастливой и неприкаянной жизнью: кто-то уже получил «похоронку», кто-то еще не получил ни одного письмеца с передовой. У кого-то захворал ребенок, и пришлось увозить его не то в Ярославль, не то в Рыбинск, Да и остаться там при местной больничке, половина которой велением времени была преобразована в военный госпиталь. А там — нестерпимые боли, рыдания, мат и крики, и окровавленные культи, и тазы с бурыми, заскорузлыми бинтами, и крошки гипса, хрустящие под ногами, и резкие госпитальные запахи с едкой вонью застоявшейся в утках мочи…
Несмотря на страсти, раздиравшие старший барак в любовные клочья, несмотря на клятвы в вечной любви или не менее вечной ненависти, все казалось временным, зыбким, неустойчивым…
Ждали скорого конца войны, ждали писем и посылок из дому, ждали, что вот-вот что-то такое произойдет и все вернется на круги своя. Но это «что-то» все не происходило и не происходило…
Даже среди старших мальчишек Мика был личностью уважаемой. Он умел стоять на руках; делал переднее и заднее сальто, а за бараком, на самодельном турнике, показывал вообще всякие замечательные штуки!
Может быть, поэтому Мика был не по годам силен физически и в свои тринадцать спокойненько мог «начистить нюх» даже восьмикласснику.
А кроме всего прочего, Мика замечательно рисовал достаточно злые и точные шаржи на руководителей эваколагеря и не очень пристойные карикатуры на внутреннюю жизнь всех трех бараков, умудряясь даже в отвратительных проявлениях этой жизни находить что-то очень смешное и издевательское.