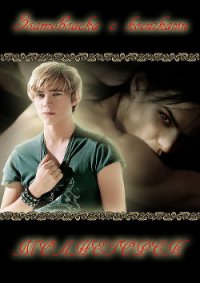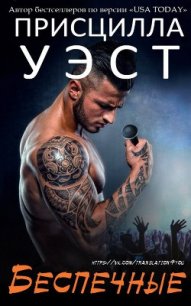Все поправимо: хроники частной жизни - Кабаков Александр Абрамович (бесплатные полные книги TXT) 📗
Наконец мне удается крепко перетянуть ногу, в этот момент боль делается невыносимой, и я на секунду теряю сознание.
Потом мы сидим с Ниной рядом и ждем, когда приедут милиция, «скорая» и Ленька, Нине удалось кое-как справиться с телефоном одной рукой. Тряпка на моей ноге промокла бурым, но понемногу кровь вроде бы останавливается.
Мы сидим и разговариваем впервые за все эти проклятые годы.
А телефон твой, почему он отвечает по-итальянски? Я забыла его в гостинице, я прилетела вчера, даже хотела тебе позвонить и сказать, но, когда собралась, Гена уже уехал, а я твоего номера не помню, в моем мобильном он записан, а здесь я не нашла и решила ждать, а вечером начали подъезжать какие-то машины, представляешь, одна за другой, постоят у ворот и уезжают, очень страшно. Но почему ты стреляла в меня? Ну, я же говорю, подъехала незнакомая машина, какой-то человек крадется. И собаки, понимаешь, собаки не узнали тебя, они спрятались в моей комнате, как от чужого, помнишь, когда приходил ветеринар, мы их не могли найти. А пистолет-то откуда? Я взяла его в Гениной комнате, я подумала, что он мог его оставить, спрятать там где-нибудь, не будет же он ездить с пистолетом в электричке, и точно, кобура и все эти ремни, они лежали под его матрацем, но я сразу нашла.
Она нянчит левой свою правую руку и постанывает, подвывает между словами, а я мучаюсь от тошноты и время от времени уплываю куда-то, выключаюсь на мгновение, но мы не прерываем разговора.
Правда, хорошо, что теперь мы можем разговаривать? А то вырубились бы оба. Знаешь, у меня новость: у нас теперь нет денег, представь себе, ни копейки, все счета пусты, можешь себе представить? Не могу, как это случилось, ты точно знаешь или просто предполагаешь? Нет, все точно, так бывает, хакер взламывает счет ну, прямо со своего компьютера, сидит где-нибудь здесь, в Москве, и взламывает мой цюрихский счет, или женевский, и все деньги мгновенно уходят на какой-нибудь другой счет, с него на третий, и ничего не найдешь, их сразу снимают, промежуточные счета закрывают, и все. Там был один парень, и одна немка мне все объяснила. Потом я тебе все расскажу. Понимаешь, просто взломали счета, а с банков ничего не получишь, в суде они выиграют, швейцарские судьи никогда не станут на сторону русского, потому что мы все мафия, понимаешь? Нет, я ничего не понимаю, что же теперь будет? На что мы будем жить? Не бойся, будем как-нибудь жить. Я уже почти придумал, как. Понимаешь, я уверен, что счета Игоря тоже вскрыли. И я решил вот что: пусть Киреевы сдают свою здешнюю квартиру и едут жить в Прагу, в нашу. Ты не против? А сюда, в дом, пусть переезжают Ленька с Ирой, они и за собаками присмотрят. А нам с тобой место я тоже придумал, только ты не возражай сразу. Я и не возражаю, ты разве не знаешь, что я могу жить где угодно, ты разве не помнишь?
Я киваю, конечно, я все помню, я киваю, стараясь получше разглядеть ее, самую красивую девочку в классе. Седые ее волосы против света отливают золотым. Как раньше. Она изменилась меньше, чем я.
Кружится голова, совсем онемела нога, я хочу сесть поудобнее, но мне не удается, я сползаю и ложусь боком на ковер, вот и хорошо, теперь можно заснуть, и боль пройдет.
Но тут раздается грохот, распахивается дверь, и меня окружают ноги в мокрых и грязных ботинках, ага, «скорая» и милиция приехали вместе, а вот и Ленька, держись, дед, говорит он, все обошлось, обе пули в мякоть, сейчас в больницу, и все будет в порядке, сердце-то как, нормально сердце, отвечаю я, а что у матери с рукой, перелом, нет, просто локоть выбила, ну, вы даете, родители, Ленька качает головой, чуть друг друга не постреляли, ну, вы даете.
Меня на носилках впихивают в «уазик» «скорой», рядом садится девушка в белом халате. А жена, где моя жена, спрашиваю я, не волнуйтесь, мужчина, говорит медсестра или врач, ее ваш сын повез на своей машине, они вперед нас будут. Я хочу спросить, значат ли ее слова, что нас везут в одну больницу, но тут «уазик» дергается, начинает разворачиваться, я чуть не сваливаюсь набок со своих носилок, боль огнем обжигает ногу, и я теряю сознание, а когда прихожу в себя от нашатыря, который сует мне в лицо медсестра, то уже не помню своего вопроса и думаю только о боли.
Остается только боль, думаю я. Боль остается, пока жив.
Потом я не то снова теряю сознание, не то засыпаю.
Эпилог. Дом престарелых
Весь день шел мелкий сухой снег, к вечеру он засыпал все тонким ровным слоем. Вечером Салтыков провожает сына и невестку, приезжающих каждую неделю. Накинув теплую куртку поверх тренировочного костюма, в котором ходит всегда, Салтыков стоит в дверях корпуса и, щурясь в белесую, словно вылинявшую от снега темноту, смотрит, как молодые садятся в машину, как едва различимо машут ему из-за стекол, как машина разворачивается, оставляя грязный след на белом…
Потом Салтыков возвращается в вестибюль, пересекает его, тяжело опираясь на палку, — к ночи нога начинает ныть, садится на диван в дальнем углу. В вестибюле по вечернему позднему времени потушен почти весь свет, только торшер рядом с диваном, на котором устроился Салтыков, включен. Здесь можно рассмотреть конверт, который сын, вспомнив в последнюю минуту, сунул в карман куртки, можно даже прочитать письмо, если не забыл в палате очки… Очки на месте, висят на груди, Салтыков долго примащивается, чтобы свет падал, как надо, потом долго рассматривает конверт. Марка американская, обратный адрес тоже американский, но он ничего не говорит Салтыкову. А русский адрес бывшей салтыковской конторы написан без ошибок, но почерк явно не русский. С трудом оторвав узкую полоску с краю конверта, Салтыков вынимает листок, разворачивает его и начинает читать.
«Уважаемый господин Михаил Салтыков, это письмо Вы получаете от сына Вашей старой знакомой Татьяны Беркович. Я сожалею, сообщая Вам, что мама умерла от сердечной атаки…»
Салтыков не дочитывает письма до конца, складывает листок, прячет его в конверт и аккуратно засовывает конверт в карман куртки. Сбрасывает очки, повисающие на груди, и, изо всех сил опираясь на палку, встает с продавленного дивана, снова пересекает вестибюль, возвращаясь к входным дверям. Перед тем как выйти наружу, натягивает, перекладывая палку из руки в руку, куртку в рукава и даже застегивает ее наглухо. Охранник, сидящий рядом с маленькой тумбочкой справа от дверей, смотрит на старика внимательно, но ничего не говорит. Пройдусь перед сном, не запирайте пока, молодой человек, хрипло просит Салтыков и выходит под мелкий снег, все сыплющийся с черного неба.
Длинная прямая аллея между огромными елями, верхушки которых растворяются в темной вышине, ведет к воротам. Идти до них хромому старому человеку не меньше десяти минут.
По дороге Салтыков думает о письме из Америки и о том телефонном звонке, о котором рассказал сегодня сын. Звонила какая-то женщина, сказала, что звонит из Австралии, действительно, чувствовалось, что звонит черт его знает откуда, — слова наталкивались одно на другое, не успевая одолевать расстояние. Говорила странно: например, поинтересовалась, что у Михаила Леонидовича с ногой, а когда Ленька ответил, что ничего страшного, последствия ранений минимальные, охнула — как, он был ранен?! Ленька предложил ей номер мобильного, который есть у отца в палате, но она, ничего на это не ответив, отключилась.
Думая о письме и телефонном звонке, Салтыков прислушивается к себе. Что-то дергается внутри, когда в голове проплывает слово «Австралия», он даже делает несколько непроизвольно быстрых шагов, сильно припадая на больную ногу, словно хочет бежать к воротам и за ворота, в белесую мглу, до самой Австралии… Но тут же останавливается, оглядывается, будто проверяя, не видел ли кто его попытки, и соображает, что дернулось просто сердце, устал за день, надо будет принять перед сном то новое лекарство, а то к утру точно начнется аритмия.
У ворот Салтыков останавливается, достает из кармана конверт и старательно рвет письмо — надвое, еще раз надвое, в мелкие клочки, и, сложив аккуратной пачечкой обрывки, втыкает их глубоко в снег, засыпавший до краев урну. Вот и нет Тани.