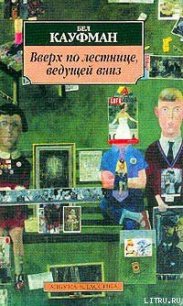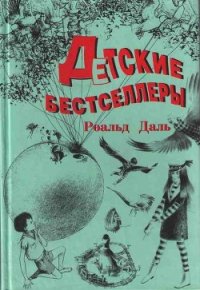Муравечество - Кауфман Чарли (читаем книги бесплатно txt) 📗
Она предлагает сделать ермолку из остатков ткани от седалища Джона Гудмана. Но я отвечаю, что это необязательно; сегодня мне ермолка не понадобится. Кажется, она удивилась и даже занервничала, но мне только кивает. И не успеваю я прийти в себя, как меня тащат в студию с черными шторами, где сидит Чарли Роуз с искренней, сконфуженной, недомогающейся улыбкой на лице. В этой версии мира он невиновен во всех обвинениях или же нет, но я в любом случае гляжу на него с неприязнью.
— Сегодня без этой самой? Кипы? — говорит он, поднимаясь мне навстречу и пожимая руку.
— Без, — отвечаю я. — Надеюсь, на передаче мы сможем обсудить это изменение.
У него загораются глаза. Сенсация!
— Конечно! — говорит он.
Мы садимся. Он обводит рукой студию.
— Как видите, — говорит он, — вы не видите камер. Но они есть, спрятанные в вульвовых складках черных вельветовых штор, полностью роботизированные. Так мы остаемся в студии наедине. Я изобрел этот метод, чтобы мои гости расслабились. По-своему это столь же революционно, как система мгновенного воспроизведения снятого материала у Джерри Льюиса. Мне это говорили многие в индустрии. Люди расслабляются. Так мне сказал Гэри Льюис из «Плейбойс», он же сын самого Джерри Льюиса. Люди расслабляются, потому что не видят камер. Как будто мы ведем личную беседу, только мы вдвоем. Гость даже не знает, когда начинается интервью.
— А оно уже началось? — спрашиваю я.
Он пожимает плечами, улыбается и подмигивает. Я сбиваюсь с мысли.
— Итак, — говорит он, улыбаясь так, будто влюблен и пьян, — поговорим о фильме Катберта.
— В эфире? — спрашиваю я. — Сейчас мы планируем будущий разговор или это уже разговор?
— Видите? Непонятно! Никто не понимает!
— Эм-м, ну ладно, — начинаю я. — Я бы хотел исповедоваться в эфире…
— Да? Интригующе! Меня интригует идея исповеди. Уверен, вам известно, что во многих, очень многих религиях существует долгая традиция исповеди как метода облегчения души. Что же в исповеди — как бы лучше выразиться — позволяет ей функционировать в качестве метода облегчения души? Во многих, очень многих религиозных традициях?
— Конечно, давайте обсудим теорию, — говорю я, — но сперва я бы хотел снять камень с души…
— Ладно, отлично, — говорит он. — Давайте. Вперед. Я заинтригован. По многим, многим причинам. Прошу.
— Ну, я не тот, за кого меня принимаете вы или ваши зрители, — говорю я.
— Вы Б. Розенбергер Розенберг, — отвечает он. — Я вас узнаю.
— Да, это я. Но им не был человек, которым вы все меня считали. Он был самозванцем. Вчера вечером я его убил, не говоря уже о Грегори Корсо, его миниатюрной живой кукле осла.
Внезапно в студию из-за черных штор вваливаются камеры.
— Что происходит? — кричит Роуз кому-то невидимому.
— Не знаю, шеф! — доносится паникующий ответ.
Роботы-камеры ускоряются как будто на меня. Я вскакиваю, сбивая при этом стул, и озираюсь в поисках выхода. Выхода найти не могу, так что просто выбираю направление и бегу, пока меня бешено преследуют камеры. Влетаю прямиком в штору и сваливаю ее всю на себя. Камеры одна за другой врезаются в меня, пока я лежу в куче на полу.
— Выключите эту чертову хрень! — кричит Роуз. — Они его убивают! Они его убьют!
Наконец все прекращается. Я окутан черным и ничего не вижу.
— Он умер? — плачет женщина, возможно, костюмерша (Агнес?).
Несколько человек возятся со шторой, пытаются найти в ней меня. Даже в перепуганном состоянии я вспоминаю ужасный фильм «Кристина», причем сразу оба: фильм о машине-демоне и байопик о тележурналистке из Флориды Кристине Чаббак, которая в 1974 году застрелилась в прямом эфире местных новостей. «Кристину» — адаптацию Джоном Карпентером одноименного романа Стивена Кинга — по очевидным причинам: меня только что пытались убить неодушевленные предметы, — а докудраму «Кристина» Антонио Кампоса потому, что, как и у Чаббак, трагедия моего существования превратилась в развлечение для незримой публики, где меня «играет» другой человек.
Меня извлекают из темницы вульвового вельвета, и на меня тут же налетают наседки, тревожно клохча: «Бедняжка! Вы в порядке?»
Я смотрю на толпу. Надо мной величественно высится Роуз, почти двух метров в высоту.
— Что вы имели в виду, когда сказали, что убили Розенбергера Розенберга?
Я смотрю на камеры. Их провода натянуты, будто они грызут удила, желая наброситься снова.
— Метафорически, — заикаюсь я. — Вы же слышали выражение: если встретишь на дороге Будду, убей его.
— Нет.
— Ну, есть такое выражение.
— Похоже на антибуддистскую версию антисемитизма — и антибуддизма, — и мне это не нравится, — говорит Роуз.
— Нет. Это не буквально.
— Это как если бы я сказал: если встретишь на дороге Моисея, убей его. Что бы вы почувствовали?
— Во-первых, Моисей в иудаизме все-таки не аналог Будды.
— Вам лучше знать, — бросает Роуз.
— А во-вторых, убийство Будды — метафорическое. Это коан, который заставляет задуматься о…
— Коэн? Бессмыслица какая-то. Говорите осмысленно!
— Раз уж мы об этом начали, не могу быть уверен, но, похоже, вы произносите «к-о-э-н».
— Совершенно верно.
— Тогда как я говорю «к-о-а-н». Ко-ан, то есть парадоксальное утверждение в буддистской традиции, предназначенное подтолкнуть человека к мышлению вне знакомых шаблонов.
— А, этот, — говорит Роуз. — Я о них слышал.
Очевидно, нет. Но это ему не мешает.
— Буддизм меня восхищает, — говорит он. — У меня на передаче был далай-лама. Его настоящее имя — Тендзин Гьяцо. Вы знали? Еще у меня был Ричард Гир, великий актер и сторонник буддизма. Это мирная религия. Он очень смешной, этот далай-лама. Мне он нравится. Он меня смешит, потому что он милый и безобидный. Вместе мы много смеялись. Он носит балахон. Он красный или оттенка красного. Я думал тоже надеть балахон на интервью, но Ричард Гир сказал, что я спровоцирую международный скандал.
* * *
На анимационную студию приехали руководители «Нетфликса», двое мужчин и женщина, похожие на любых двоих мужчин и женщину из голливудского руководства. Моя ассистентка — чье имя я не знаю, но она похожа на всех ассистенток: молодая, девушка и слегка смешанного национального происхождения, словно актриса из рекламы безалкогольных напитков, по последней моде, — приводит их в кинотеатр, где мы все обнимаемся, как старые друзья. Ассистентка спрашивает, надо ли кому-нибудь кофе, воды или чего-нибудь еще.
— Я бы хотела воды, — отвечает женщина из делегации.
— Нам не надо, — хором отвечают двое мужчин из делегации.
Ассистентка кивает и уходит.
— Итак, — говорит один из мужчин, — нам не терпится увидеть первую серию!
— Совершенно не терпится, — говорит женщина.
— Да, — говорит второй мужчина.
— Отлично, — отвечаю я. — Мы ею очень гордимся. Итак, без дальнейших проволочек…
Я даю сигнал человеку, который, полагаю, должен быть в кинобудке. Свет гаснет, и на экране загорается заставка. Под громогласную музыкальную тему, напоминающую Рамина Джавади, старый афроамериканский актер в еще более старящем гриме, исполняющий Инго, двигает куклы голых черных девушек с пенисами по поверхности чужой планеты, а через миг исчезает, оставляя черных ледибоев самих по себе, уже анимированных, чтобы сражаться с ледяными монстрами и огненными демонами. Это брутально, кроваво, героически и нелепо. Музыкальную тему, как теперь показывают титры, действительно написал Джавади. А как же. Должен признать, я чувствую некое возбуждение, когда вижу под надписью «Автор идеи» свое имя рядом с именем Инго.
— Очень нравится начало, — говорит женщина из делегации.
— Нам тоже, — говорят мужчины.
— Так и затягивает, — говорит женщина.
— Бум, — говорит один из мужчин.
— Что значит — «бум»? — спрашивает второй.
— Как бы — «бум». Так и затягивает.
— Разве так говорят?