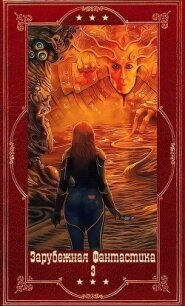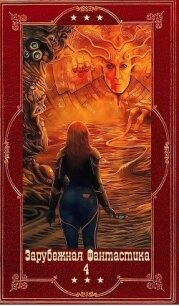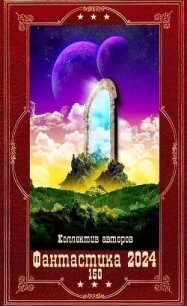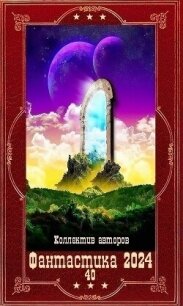Угол покоя - Стегнер Уоллес (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
Он еще не достиг тридцати, но уже был человеком с репутацией, человеком влиятельным. Он очаровывал и читающую, и светскую публику. Стихи сыпались из него, как сыпались под весенним ветерком лепестки с яблонь на ферме у Берлингов. В журнале “Скрибнер” он вел ежемесячный раздел под названием “Старый шкаф”, и литературный мир ждал этих публикаций и обсуждал их. Формально помощник главного редактора, которым в “Скрибнере” был доктор Холланд, он, по сути, делал за Холланда всю работу, принимал за него большую часть решений и находил всех ярких авторов, честь привлечения которых приписывали Холланду.
Сюзан была его открытием, а он – ее. С большинством новых друзей она знакомилась через Огасту, но с Томасом Огаста познакомилась через нее. Всего за несколько недель они стали неразлучным трио. В том Нью-Йорке, о котором писала Эдит Уортон, они платонически, безопасно и радостно вращались в мире картинных галерей, театров и концертов. Я понятия не имею, возмещались ли в 1870‑е годы редакторам сопутствующие расходы, но Томас вел себя так, словно они возмещались. И я также не имею понятия, ухаживал ли Томас за Сюзан, или за Огастой, или за обеими, или ни за одной. Сомневаюсь, что кто‑либо из них это знал. У людей утонченных такая неопределенность вполне возможна.
Мне трудно быть беспристрастным к Томасу Хадсону, потому что его все мое детство ставили мне в пример, он был недостижимым идеалом. Но от бывших коллег, от специалистов по американской литературе, которые изучают всякое такое, я слышал, что равного ему редактора страна не знала. Недавно я просматривал подшивку “Сенчури” – журнала, который он редактировал после закрытия “Скрибнера”, – и в одном-единственном февральском номере 1885 года обнаружил, помимо очерка Сюзан Берлинг-Уорд, который был мне там нужен, последнюю порцию “Приключений Гекльберри Финна” Марка Твена, девятую и десятую главы романа “Взлет Сайласа Лафема” Уильяма Дина Хауэллса и начало романа “Бостонцы” Генри Джеймса. Я бы не удивился, если бы оказалось, что он распознал и опубликовал две трети лучшего, что дала литература за четыре десятилетия. Он был близок к тому совершенству, каким его считала бабушка: безупречное сочетание вкуса, ума и порядочности. Он принадлежал к когорте нью-йоркских либералов, которые, каждый в свое время, расчистили свинарник, устроенный Грантом [33], и ниспровергли Таммани-Холл [34]. Человек на все времена. Томас, нам тебя страшно не хватает сейчас. Так что я должен смирить свое побуждение говорить о нем пренебрежительно или шутливо, возникшее только лишь потому, что бабушка использовала его совершенство против меня как палку для наказаний.
В 1870‑е он был мягок, вдумчив и занимателен, дух ярко просвечивал сквозь хрупкую, почти бесполую телесную оболочку. Его здоровье пострадало от ран, полученных на войне, однако работал он за троих. Кисти его рук отличались бледностью и худобой, а улыбка была невероятной сладости. Он любил беседу, и свою позицию – позицию благородного идеализма – он занимал так же естественно, как вода наполняет ямку в прибрежном песке. Сюзан сообщила ему в одном из писем, что у него “истинно женский дар говорить милые, приятные вещи, добавляя к ним чуточку боли”. Во многих письмах она игриво адресуется к нему “кузен Томас”. Несколько лет он дарил ей небольшие подарки: японский чайник, миниатюрную Мадонну, томики стихов – и она их сохранила, в отличие от другого, утраченного, как, например, дедушкины письма. Стихотворные сборники и Мадонна сейчас внизу, в библиотеке, засоленные, как лепестки бабушкиных роз.
Ее вожатый в издательском мире, ее ближайший друг мужского пола, идеальный кавалер, каким он выведен в ее учтивых письмах, Томас не мог не возникнуть в мыслях Сюзан как потенциальный жених. Разумеется, ничего подобного сквозь пристойную игривость ее писем к нему не проглядывает. Самое близкое, что я нахожу, – это размышление о Дружбе, заставляющее вспомнить Цицерона: “Когда Вы вдали от Ваших друзей, что Вы вспоминаете – их слова или их внезапные пронзительные, обнажающие душу взгляды? В отзывчивом человеческом лице поистине есть что‑то внушающее ужас. Мужчина, который сказал, что тончайший музыкальный инструмент в умелых руках – это отзывчивая впечатлительная женщина, какой он, должно быть, грубый дикарь! Не верю, что он мог извлекать эту проникновенную музыку и сметь потом этим хвалиться”.
Что она хотела этим сказать? Безусловно, тут нет подспудного упрека Томасу в игре на ее сердечных струнах, но намек на то, что эти струны вибрируют, тут вполне может быть. Не страшилась ли она слегка, что в ее собственном взгляде могло при нем внезапно появиться что‑то до ужаса пронзительное, обнажающее душу?
Чем дольше я исследую свою бабушку в том возрасте, тем более сложной она выглядит, эта девица из квакерской семьи. Она испытывает страсть к Огасте, этому чувству уже четыре или пять лет. Она восхищается Томасом Хадсоном, идеализирует его, возможно, влюблена в него. За ней ухаживают несколько молодых людей, в том числе два брата Огасты, которые могут предложить ей (и, по меньшей мере, Дикки, кажется, предлагал) положение в обществе – то, к чему она не сказать чтобы равнодушна. Она предана искусству и усердно трудится над своими рисунками. И при всем том, если верить ее воспоминаниям, у нее постепенно возникало “взаимопонимание” с Оливером Уордом, с инженером на два года младше нее, с которым она виделась только один раз и о существовании которого другим своим друзьям не сообщала.
Затем, летом 1873 года, она начала замечать, что зыбкая магнитная стрелка сердечных чувств Томаса склонна остановиться не на ней, а на Огасте. Это моя догадка, но не беспочвенная. Она внезапно вернулась в Милтон, хотя собиралась прочно обосноваться в Нью-Йорке. Поток писем заметно оскудел. Никаких больше излияний на шести страницах – только краткие записки, да и те уклончивые. Настойчивость в этой переписке проявляла Огаста. Сюзан ссылалась на викингов из “Скелета в броне” Лонгфелло, которые отнимали много сил. Нью-Йорк, писала она, слишком ее возбуждает. На слова Огасты, что ей не следует хоронить себя в деревне, она ответила, что, будь у нее такой талант, как у Огасты, она, может быть, законно пожертвовала бы ради него родителями и родным домом. Но у нее талант куда более скромный, и, если в доме родителей, которые дали ей все, этот талант зачахнет, то так тому и быть.
Столько печальной покорности долгу, столько самоуничижения. Думаю, что она, бедняжка, была ранена, ибо, в худших традициях чувствительных песен, видела себя теряющей и возлюбленного, и подругу. Получить свою долю удовлетворения, обвинив кого‑либо в измене, она не могла, и она бы гневно осудила себя даже за тень мысли о соперничестве с Огастой. Безупречный союз, идеальная пара – она готова была сказать это первая. Но ей от этого было не легче. В горькую минуту она, может быть, спрашивала себя: не потому ли он выбрал Огасту, что она богата, из прекрасной семьи и подведет под его карьеру светскую базу? Я думаю, Сюзан оплакивала былые радости и утраченную дружбу. В письмах есть упоминание о бессоннице и лицевой невралгии.
Каким‑то образом она довела до ссоры. Я понятия не имею, из-за чего, ключевые письма утрачены – возможно, уничтожены в гневе или в пылу примирения. Огаста собиралась посетить Милтон, и Сюзан если не сполна, то хотя бы отчасти предвкушала любовное пиршество. Но какая‑то ее записка, судя по всему, заставила Огасту, уже изрядно раздраженную дезертирством Сюзан, всерьез нахмурить черные брови. В последнюю минуту она сухой запиской отменила посещение: мол, ей надо сопроводить родителей в Олбани. Подпись гласила: “Твоя неизменная подруга”.
Ответное письмо Сюзан сообщает мне все, что я об этом знаю.
Пристань Фишкилл
Вторник, поздний вечер
Моя милая, милая девочка!
Твоя записка пришла сегодня после полудня, мы с Бесси как раз приготовили тебе комнату и постелили постель – нашу постель, где, я думала, буду лежать этой ночью, а под головой у меня будет рука моей милой девочки. От этого по мне пробежала странная маленькая, чуть болезненная дрожь, такое у меня всего раз или два было в жизни, – а потом я подумала, что мне просто необходимо тебя увидеть – нет, не для того, чтобы “обсудить положение вещей”, мне нет дела до “вещей”, я только хочу, чтобы ты меня любила.
Поэтому после ужина я второпях сменила платье, кружевной воротник спереди опустила пониже, чтобы сделать приятное моей девочке [Что?! Ох, бабушка…], и бегом в сад за букетом роз – твоих июньских роз, припозднились ради тебя (мы их берегли, мы умоляли бутоны подождать еще несколько дней до твоего приезда), – а оттуда вниз к вечернему пароходу. Думала, или упрошу тебя сойти, или проплыву с тобой до Уэст-Пойнта. Увы! Что за чувство, что за больное, тонущее чувство, когда я увидела огни “Мэри Пауэлл” уже на реке, все дальше от меня с каждой секундой! Я была вне себя. Стояла на пристани и плакала, а потом пошла, принялась ходить, и только сейчас, через два часа, я владею собой настолько, что сижу, съежившись на скамейке, пишу тебе это при свете звезд и прошу твоего прощения.
Я так хочу обнять мою девочку, которая мне дороже всех девочек на свете, и сказать ей, что, перееду ли я в Нью-Йорк или останусь дома, будет ли она подписываться “твоя неизменная подруга” или “самая-самая твоя девочка”, я люблю ее, как жены любят своих мужей, как любят подруги, соединившиеся на всю жизнь. Ты думаешь, что у любви есть приливы и отливы. Что ж, этим летом и правда был сильный отлив. Не могу разобрать и объяснить все, из‑за чего он случился – тут сошлось несколько причин, – но он показал мне только, как много ты для меня значишь. На маленьких речках отливов не бывает, понимаешь?
И, пожалуйста, не называй себя больше моей неизменной подругой, ладно? Я могу выдержать споры, упреки – но это… “Твоя неизменная подруга”! И затем не успеть самую малость, прийти и увидеть эту расширяющуюся ленту воды! Я должна была бежать сломя голову, пустяки, что темная дорожка, и в другой раз побегу. Я упрямая ослица, какое может быть у меня к тебе охлаждение? Если бы я тебя не любила – как ты думаешь, сходила бы я с ума, воображала бы всякие глупости, впадала бы в панику, вела бы себя как дура, пришла бы в полное расстройство на этой пристани? Но сейчас, я чувствую, гроза миновала. Я готова припасть к твоим юбкам, женщина, и твоя гениальность мне не помеха. Ты не спрячешься от любви твоей верной
Сю