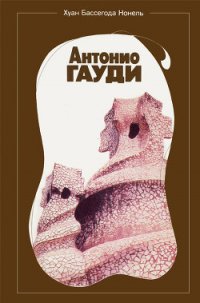Польский всадник - Муньос Молина Антонио (читать полностью книгу без регистрации txt) 📗
По мере того как рукопись углублялась в будущее и вымысел, она обрастала все более увлекательными подробностями в отличие от повествования о реальных событиях, где чувствовалась поспешная и разочарованная сухость: обнаружение нетленной женщины занимало в мемуарах совсем незначительное место и было лишено какого бы то ни было разъяснения – возможно потому, что инспектор забыл детали или, по литературному предположению Лоренсито, некие скрытые интересы заставляли его и сорок лет спустя хранить тайну. Уже тогда, в начале карьеры, у инспектора было задумчивое лицо с горестным и трудолюбиво-высокомерным выражением, видным на фотографиях Рамиро Портретиста и сохранившимся до самой старости.
– Посмотри на него, – говорит Надя, вспоминая, узнавая почти с нежностью, хотя видела его в первый и единственный раз восемнадцать лет назад, когда он был уже старым никчемным полицейским, упорно отказывавшимся уйти на пенсию. Надя отделяет эту фотографию от других и показывает Мануэлю, который молча стоит сзади и обнимает ее, просунув руки под блузку. – Он никогда не менялся.
Лицо у Флоренсио Переса было как из грубого картона, а доходившие до середины лба волосы, несмотря на то что он приглаживал их назад бриллиантином, непослушно топорщились жесткими прядями, не поддаваясь никакой укладке, брови походили на двойную черную арку, а черты лица были квадратные и мягкие. На толстой и оттопыренной нижней губе инспектора всегда висел погасший окурок, а подбородок был постоянно черный, хотя он брился дважды в день. «Нелепое лицо, – думал он с горечью, – такое же нелепое, как и его имя – Флоренсио Перес Тальянте: одинаково ужасное для полицейского и поэта, настоящая могила». Рамиро Портретист заснял его на том же месте, где много лет спустя увидела субкомиссара Надя, и почти в той же позе: за столом, под распятием, гравюрой Иисуса Христа и портретом Франко, с телефоном справа и письменным прибором слева, подперев рукой подбородок, будто желая напустить на себя задумчивый вид. Он скучал и отбивал пальцами доли стихотворного размера в своем кабинете на площади Генерала Ордуньи, возле башни с часами, когда вошел караульный и сообщил, что какая-то женщина, похожая на сумасшедшую, пришла заявить об обнаружении неопознанного тела, несомненно, жертвы красных, замученной и замурованной в подвале. В качестве первой предосторожности, даже не приняв и не выслушав женщину, инспектор Флоренсио Перес, убежденный сторонник решительных мер, приказал немедленно арестовать ее, но когда караульный вышел, чтобы исполнить приказ, понравившийся самому инспектору своей восхитительной твердостью и категоричностью, дверь распахнулась и в кабинет ворвалась смотрительница, вздымая правую руку жестом «вставай, Испания!» и, как тюремной цепью, звеня связкой ключей, висевшей у нее на поясе.
– Я собиралась рассказать об этом приходскому священнику церкви Сан-Лоренсо, – сказала она порывисто, не давая инспектору времени выразить свое негодование, – но вспомнила, что его уже нет, и сказала себе: «Габриэла, иди сообщи об этом в псарне, все же это больше начальство».
То, что полицейский участок называли в Махине псарней, всегда выводило Флоренсио Переса из себя, но то, что эта растрепанная женщина с рваным камзолом на плечах, связкой ключей и грязными резиновыми сапогами ворвалась в его собственный кабинет в спокойный утренний час, когда инспектор приятно бездействовал и отбивал ритм одиннадцатисложника, то, что она так крикливо с ним разговаривала, вовсе не выказывая признаков страха перед его персоной и произнеся мимоходом слово «псарня», едва не вызвало у него сердечный приступ. Несильный удар кулаком по столу лишь опрокинул пепельницу на следственные документы – среди которых инспектор обычно прятал черновики сонетов, – но ничуть не повысил его самооценку. Он не годился для этой работы, как часто признавался Флоренсио Перес своему другу детства лейтенанту Чаморро, которого время от времени вынужден был арестовывать: у него был не тот характер.
– Сеньора, – предостерег инспектор, поднимаясь и стряхивая пепел, запачкавший брюки и отвороты пиджака, как дону Антонио Мачадо, – ведите себя пристойно, или же я вас запру, а ключ выброшу в колодец.
– То же самое сделали и с ней, – сказала смотрительница, выдохнув запах резины и канализационной трубы, похожий на вонь ее сапог, – ее заперли в застенке, и для этого даже не потребовался ключ, потому что ей замуровали выход, чтобы она никогда больше не увидела свет божий.
– Да что вы, здесь нет ничего подобного, – сострадательно пробормотал караульный, но недостаточно тихо, и инспектор его услышал.
– Говорите только тогда, когда вас спрашивают, Мурсьяно, – сурово заметил он, – выйдите и ждите моих приказаний.
У караульного было деревенское лицо, и полицейская форма казалась слишком большой для его тщедушного тела: когда он вытягивался по стойке «смирно», серый мундир висел на нем как жалкий балахон.
– Значит, мне не уводить эту женщину в качестве задержанной?
– Ни в каком качестве, Мурсьяно, – повысили голос инспектор, раздраженный тем, что подчиненный осмеливался употреблять его любимые формулы казенного языка. – Идите и не выводите меня из себя, я сам скажу вам, что делать, когда закончится допрос.
– Так, значит, вы не запрете меня в псарне? – Смотрительница подошла к инспектору, молитвенно сложив руки, будто собираясь упасть на колени. – Ну я же говорила: у вас лицо доброго человека, почти как у мальчишки.
– Сеньора! – Поднявшись на ноги, инспектор обнаружил, что был вовсе не таким высоким, каким представлял себя в мимолетные моменты эйфории, и, ударив второй раз по столу, ощутил острую боль в руке, потому что удар пришелся по металлическому ребру пресс-папье, изображавшему базилику Монсеррат. Инспектор механически взвесил его, нервно думая, что любой предмет может быть с легкостью использован как орудие убийства. – Садитесь! – Он поставил пресс-папье обратно на стол. – Замолчите, не говорите ничего, пока я вас не спрошу, и сделайте одолжение – изъясняйтесь с должным уважением.
«Но это бесполезно», – подумал Флоренсио Перес. Никто никогда не считался с ним: ни преступники, ни подчиненные, ни собственные дети, которые после его смерти отдали Лоренсито Кесаде его мемуары, даже не заглянув в них, как отдают ненужную бумагу старьевщику. Чтобы успокоиться, инспектор свернул неуклюжую сигарету и, проводя языком по клеящемуся краю, засмотрелся на стоявшую за окном статую генерала Ордуньи, в честь которого в это утро он начал писать сонет.
– Бессмертная бронза твоих деяний, – прошептал он отчаянно, но не сдаваясь, – древняя бронза твоих деяний.
Пальцами левой руки он, считая слоги, отстукивал по стеклу ритм, с головой погрузившись в это занятие, приходя в отчаяние от сложности рифмы и не замечая, что смотрительница все это время продолжала говорить, не дожидаясь вопросов, без малейшего уважения к его чину:
– …смуглая, это правда, но с голубыми глазами, огромными, будто испуганными – с какими люди остаются после удара, когда уже не говорят и не понимают, – с пробором посередине, как у дам в старину, с бантами и локонами, в черном платье с большим вырезом, черном, или темно-синем, или фиолетовом – я не смогла хорошо разглядеть, потому что в отверстии очень темно и я не хотела расширять его, чтобы не трогать ничего до вас, а на шее у нее образок, это я хорошо заметила, по-моему, образок Иисуса…
«Оглушает Испанию славой, – решил инспектор, не видя и не слыша смотрительницы, – слава твоих подвигов».
– А сложением она вроде вас, ничего примечательного, но очень разряженная, хотя я ее не слишком хорошо разглядела, потому что, кажется, она сидит в кресле, а внутрь я не хотела соваться, чтобы не повредить чего-нибудь. Мертвых нельзя трогать до тех пор, пока следователь не скажет, чтобы их поднимали. Конечно, она не лежит, и мне кажется, что она вовсе и не мертвая, какое там! – у нее кожа нежная как персик, но только очень бледная, словно из воска – наверное потому, что – как я слышала – эти дамы пили уксус…