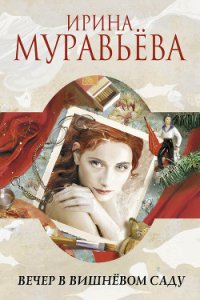Шестая повесть И.П. Белкина, или Роковая любовь российского сочинителя - Муравьева Ирина Лазаревна
– Скорее, скорее! – шептала княгиня, впиваясь зубами ему прямо в губы. – Мне вовсе не больно! Не больно, не больно…
Иван Петрович почувствовал, как тоненькая струйка горячей крови потекла по его подбородку, и поспешно слизнул ее, боясь, что княгине вдруг станет неловко. Но она и не заметила этого. Точеное тело ее извивалось, а красные родинки над левой грудью припухли и стали похожи на ягоды.
Когда же закончились юные силы, и хриплые вскрики затихли, и руки повисли, устав от объятий и боли, княгиня сказала с печальным упреком:
– Я думала, вы в прошлый раз догадались…
Иван Петрович посмотрел на нее с обожанием. Ему было так сладко, что ни о чем – даже о грехе и необходимости развода – говорить не хотелось. Они полежали еще, помолчали. Он взял ее тонкую хрупкую руку и поцеловал от избытка любви.
– Пора мне, – устало сказала она.
Потом осмотрелась, как будто впервые.
– Я больше сюда не приду, мон ами.
Иван Петрович не понял, о чем она говорит, и растерянно улыбнулся.
– Когда я увижу вас?
– Вы? Никогда.
Он обмер. Она была очень спокойна.
– Позволь, я оденусь, – сказала княгиня.
Иван Петрович поспешно натянул панталоны, попытался застегнуть сорочку, но пальцы дрожали, пуговки не слушались.
– Сядь, Ваня, – шепнула княгиня Ахмакова.
Он сел на постель. Она подошла к нему вплотную, взяла его голову в свои ладони и поцеловала Ивана Петровича в лоб.
– Мой бедненький мальчик! – сказала она. – Какой же ты чистый, какой ты невинный! Прости меня, милый, за все, не сердись.
– Нам нужно венчаться, – сказал он испуганно. – Нельзя жить в грехе, нам Господь не простит…
Она замахала руками, смеясь.
– Да ты еще глупенький, Ваня, к тому же. Прощай, мне пора. Я и так задержалась.
Он подошел к окну точно так же, как и неделю назад. Увидел, как она впорхнула в карету и карета отъехала. В висках стучало, он ничего не понимал. Ливень, вроде бы переставший и уступивший место робкому весеннему солнцу, опять зарядил с еще большею силой.
Так начался ад. Никаким другим словом нельзя назвать жизнь, которая наступила для Ивана Петровича в ту минуту, как от его парадного отъехала карета и дождь торопливо размыл ее след.
Сперва он уверял себя, что, верно, ослышался, просто не понял, но, восстанавливая в памяти слова княгини и в особенности печальное лицо ее, с ужасом понимал, что она действительно разорвала их отношения, и разорвала навсегда. Уверившись в этой мысли, Иван Петрович принялся объяснять себе причины, по которым в его жизни могло произойти столь непоправимое несчастье. Снова и снова воображение рисовало ему их первую встречу в театре. Снова и снова он видел в полутьме ложи это маленькое круглое лицо с полузакрытыми рассеянными глазами необычайного цвета, который присущ океанской воде в тот час, когда солнце встает над волнами. (Иван Петрович, к великому нашему сожалению, никогда не бывал на океане, но мог догадаться по славным работам больших и не очень больших живописцев.) То, что он рванулся за четой Ахмаковых и чуть было не упал в гардеробной, не могло отвратить княгиню от Ивана Петровича – скорее, могло рассмешить, хотя он ни разу не видел улыбки на этом чудесном и странном лице. Потом быстрый вальс, ее легкие руки и шепот, и это ее приглашенье. Здесь еще все шло как по маслу: княгиня как будто сама с ним искала сближения. А дальше? Ведь как она это сказала? «Сегодня не стоит позировать». Боже! Его обожгло. Как только воспаленный мозг Ивана Петровича восстанавливал подробности их первого свидания, к горлу его подступал ком, и глаза переполнялись слезами. Особенно страшен и чуден был миг, когда она резким и легким движеньем расстегнула высокий сборчатый воротник своего платья, и он вдруг увидел под тонкой сорочкой две яркие красные родинки эти… Нет, это свидание было счастливым! Не зря же пришла ему мысль о разводе! Поскольку представить себе, что он будет вот так отпускать ее к мужу, бросаться на эту кровать, задыхаться от запаха черных волос, пропитавшего подушки и простыни, – о, никогда!
Да, да, все божественным было, безумным! Они не грешили, они – погибали на ложе любви, и их единенье должно было кончиться браком, семьею! Зачем же княгиня сказала, что больше сюда никогда, никогда не вернется? Быть может, он был слишком груб в своих ласках? Быть может, он многого слишком просил? Но нет. Его вдруг затошнило. Он вспомнил: слюна была очень соленой и красной. Все эти три раза: соленой и красной! Княгиня кусала его прямо в губы. Смеялась при этом. И чем ему было больнее, тем громче. Он тоже смеялся. Да, он хохотал! Ему было любо, ему было сладко…
Иван Петрович быстро зашагал по комнате. Инстинкт подсказал, что разгадка здесь, близко.
Давайте, любезный читатель, расстанемся ненадолго с Иваном Петровичем Белкиным и посмотрим, что происходило в тот же день с Мещерским и милой ему Аграфеной Андреевной. Узнав, что сегодня венчание, Аграфена Андреевна как-то очень быстро справилась со своим недомоганием, велела горничной растереть ей грудь и спину горячим свиным жиром, купленным на рынке у заставы и пахнущим так, что Мещерский, изнеженный с детства, чуть не задохнулся от этого запаха. Потом обмоталась платком козьей шерсти, надела поверх его белое платье, недавно купленное на том же Кузнецком мосту, и, похорошев от волненья и счастья, сказала, что ехать венчаться готова. Мещерский, загодя пославший слугу своего договориться со священником одной из скромных подмосковных церквей, надел черный фрак и усы надушил. Себе самому он казался героем, не меньше нисколько, чем Багратион. Выйдя из Груниной квартирки, он вспомнил, что оставил у себя в кабинете портмоне с деньгами, а потому нужно сделать небольшой крюк, чтобы попасть домой на Покровку. Подъехав же к дому уже со своею невестой, он с ужасом увидел во всех окнах свет, большую знакомую повозку у подъезда и маменькину горничную Арину, с сердитым лицом вынимавшую из повозки какой-то узел.
«Пропал я! – тоскливо подумал Мещерский. – Придется сейчас обьяснять всю историю!»
Груня тоже заметила неладное и удивленно посмотрела на него в надежде объяснений.
– Душа моя! – нежно сказал ей Мещерский. – Поедем, пожалуй, обратно.
– Зачем нам обратно? – спросила она и сдвинула черные брови.
– Тут, видишь ли, маменька… Право, не знаю, с чего она вдруг из деревни…
Мещерский запнулся. У Груни глаза ярко вдруг заблестели.
– Какая удача! Вот ты и представишь меня сейчас маменьке! Ведь, чай, не чужие.
Мещерский не успел ничего ответить на это нелепое предложение, поскольку старый лакей в заношенной и обтрепавшейся, золотом расшитой ливрее старинного, еще прошлого века покроя, появился в открытых дверях и поклоном пригласил барина пожаловать в дом.
– Я здесь не останусь! – сказала тем временем Груня и снова закашляла.
– Душа моя, – пролепетал ей Мещерский, – я живо туда и обратно…
– Ни-ни! – закричала она. – Не пущу ни за что! А то я сейчас вам истерику сделаю!
И козочкой выпрыгнула на тротуар. Мещерский вылез следом. Ноги его дрожали. Груня смело взошла по лестнице мимо лакея, на лице которого отразилось замешательство.
«Была не была! – вдруг подумал Мещерский. – В конце концов, завтра же и застрелюсь!»
Маменька сидела в глубоких креслах. На праздничном чепце ее прыгали золотистые блики от только что зажженных свечей.
– Ты где же гуляешь, дружок? – начала было маменька, не сразу разглядевши закрытую широкой спиной своего сына Аграфену Андреевну.
– Я занят по службе был, маменька, – ответил Мещерский и сделал шаг, чтобы поцеловать родительнице руку.
Тут-то и обнаружилась незнакомая совершенно и очень миловидная барышня в нарядном, не по погоде надетом белом платье, от которого распространялся крепкий и нежный запах какого-то деревенского животного. Маменькины брови поползли наверх, под самый чепец, освещенный свечами. Аграфена Андреевна присела в грациозном реверансе.
– Позволь, мон ами, что-то я не пойму… – И маменька вся побелела.