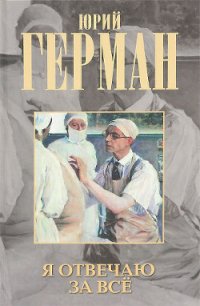Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
– Нет.
Устименко налил себе еще коньяку и выпил. Оганян посмотрела на него с ужасом.
– Вы – пьяница! – воскликнула она.
– Нисколько, я – алкоголик! – поддразнил он ее. – Так где же эти знаменитые слова?
Ашхен вынула из внутреннего кармана кителя бумажник, порылась в нем и положила перед собой узкую бумажку, испещренную мелкими, бисерными строчками Бакуниной.
– Шпаргалка, заготовленная специально для меня, – сказал Володя. Воображаю, сколько времени у вас ушло на эту писанину, сколько книг перелистала бедная Зинаида Михайловна, сколько вы с ней переругивались. Ну, нашли?
– Нашла.
– Огласим примерчик?
– Вы уже пьяненький, Володечка, – укоризненно покачала головой с прической из загогулин старуха. – Пьян, как фортепьян, вот вы какой…
– В доску и в стружку! – пугая Ашхен, сказал Устименко. – И в бубен…
– Надо скорее кушать больше масла. И семгу! Почему вы не едите семгу? Дедушка, принесите подполковнику еще чего-нибудь жирного, он уже напивается…
– Я шучу, – улыбаясь, ответил Володя. – Шучу, Ашхен Ованесовна. Я просто вас очень люблю и рад вам необыкновенно…
Старуха с грохотом высморкалась и, слегка отвернувшись, сказала:
– Ну, ну, знаю я вас. Слушайте цитату!
И, криво посадив на нос пенсне, прочитала с выражением:
– В те дни знаменитый хирург Оппель писал: «Настоящие, истинные хирурги обычно ищут трудностей, чтобы эти трудности преодолеть. К разряду хирургов, ищущих трудности, чтобы их преодолеть, я, кажется, имею право себя причислить». Понятно?
– Абсолютно понятно. Только ко мне не имеет никакого отношения. Пожалуйста, поймите, Ашхен Ованесовна: меня замучила неврома. Я больше не сплю, как спят нормальные люди. Я потерял голову от этих болей и от всего, что с ними связано. Мне нужно ампутировать руку, а они не желают. С хирургией – кончено, но они не берут на себя ответственность, черт бы их побрал. А сам себе я не могу это сделать. Не хватает мужества. Да и трудновато, наверное. Поговорите с ними, хорошо?
– Хорошо, – задумчиво прихлебывая шампанское, сказала баба-Яга. – Я поговорю. Но руку вам мы не ампутируем. Неврому вы переживете, нет, нет, не приходите в бешенство, дорогой Володечка, я знаю, что такое неврома. Неврому, повторяю, вы преодолеете со временем, а вот потерю профессии вы не переживете никогда. Понятно вам?
– Я ее потерял, свою профессию, – с тихой яростью в голосе ответил он, – я же не мальчик, Ашхен Ованесовна, я – врач, и опытный.
– Нет, вы – мальчик, я опытнее вас.
– Но вы же ничего про меня не знаете!
– Да, ваши руки я не смотрела, но все, что требуется, видела в Москве, мне посылали. А сегодня буду смотреть ваши руки.
Вечером в перевязочной она долго осматривала эти его проклятые, несчастные руки. От Устименки несло перегаром. Он был бледен, возбужден и зол. Ашхен молчала, посапывала и ничего решительно не говорила.
– Ну? – спросил он ее.
– Я скажу вам правду, Володечка. Абсолютную правду. Вас уже дважды оперировали, и состояние ваших рук, конечно, улучшилось. Нужно еще минимум две операции, вы сами знаете это. Но главное не операции. Главное – вы!
– Спасибо! – поклонился он. – Воля, собранность, вера в конечную победу человеческого разума над самим собой. Букет моей бабушки. Все это я и сам умел говорить до поры до времени. А теперь хватит. Спокойной ночи, Ашхен Ованесовна, я что-то устал за сегодняшний день.
– Спокойной ночи, Володечка, – грустным басом ответила Оганян.
На следующий день он ее проводил на аэродром. Она предложила Володе поместить его в Москве в госпиталь, но он отказался. И самолет, старенький самолетишко, важно улетел из Стародольска, а Володя не скоро вернулся в свою пятую палату, большую часть знойного осеннего дня просидел в госпитальном парке. И на следующий день он сидел там, и вечером, и так изо дня в день, из вечера в вечер, сидел, думал, слушал, как в городском саду над рекой Сожарой играл оркестр, и это напоминало юность, музыку в бывшем купеческом, ныне имени Десятилетия Октября, саду, том самом, где умер Пров Яковлевич Полунин.
Два пальца левой руки служили Володе безотказно – ими он брал из разорванной пачки тоненькие папироски-гвоздики и курил их одну за другой, сдвинув свои кустистые брови и неподвижно глядя в темнеющие глубины старого парка. Там уже сгущался, оседал мрак наступающей ночи. А оркестр все играл и играл, совсем как тогда, когда все было впереди, когда видел себя «длинношеий» Устименко настоящим хирургом, когда буйная его фантазия сочиняла немыслимые и сейчас операции, когда, задыхаясь от волнения, оставлял он далеко за собою современную хирургию и запросто перешагивал столетия, бешено шепча о великих своих современниках:
«Ретрограды! Знахари! Тупицы! Чиновники от хирургии!»
Ну что ж, уважаемый Владимир Афанасьевич, хирург, имеющий опыт Великой Отечественной войны, доктор, находящийся в центре современных знаний, единственный и подлинный революционер в науке, почините себе ручку! Не можете? И мыслей даже никаких нет? А как просто находил он слова утешения для своих раненых, как разумно, именно разумно рекомендовал им другие специальности и профессии, как раздражался на тех, которые отказывались есть и подолгу молчали, замыкаясь и уходя от того, что называл он «коллективом».
– Эти нытики! – так он именовал их, людей, потерявших самое главное дело, которому они служили. – Эти нытики!
Иногда с ним заговаривали здешние доктора – медведеобразный, с животом, кривоногий Николай Федорович, высокая, худая и жилистая Антонова, старый и насмешливый Заколдаев и еще совсем молоденькая докторша Мария Павловна. По всей вероятности, для того чтобы не причинять ему излишнюю боль, они все словно забыли, что он врач, и говорили с ним о чем угодно, кроме того дела, без которого он не мог жить. Они отвлекали его болтовней на самые разные темы, а он только помалкивал, хмуро и остро поглядывая на них из-под лохматых ресниц и нетерпеливо дожидаясь окончания бесед «из чуткости».
Они «все пели», так же как он в свое время.
Пел и допелся!
Так теперь попляши – умный, талантливый, подающий такие надежды, железный, несгибаемый, высокопринципиальный, требовательный до педантизма подполковник Устименко! Бывший врач Устименко, а теперь подполковник, находящийся на излечении. Попляши!
ДВЕ ТАБЛЕТКИ – ДОБРЫЙ СОН, ПЯТЬДЕСЯТ – ТИХАЯ СМЕРТЬ
Он уже собрался уходить в госпиталь, когда рядом тяжело опустился на скамью майор Малевич – сосед по палате, преферансист и выпивоха.
– Это вы, подполковник?
– Я.
– Все размышляете?
– А что еще делать?
– Делать, конечно, нечего.
Володя промолчал.
– Я вот спиртяжкой разжился, – все еще пыхтя, сказал майор. – Разувают здесь проклятые шинкарки за это зелье, да куда денешься. Желаете войти в долю?
– Могу.
– Расчет наличными.
– Деньги в палате.
– Сделано. Начнем?
А почему же и нет? Почему не выпить, когда представляется возможность? И в преферанс он будет теперь играть – это тоже средство убить время, так, кажется, выражаются товарищи преферансисты?
– Луковка есть, хлебушко тоже, – сладко басил Малевич. – И стакашечка у меня имеется. Все средства для подавления тоски.
Засветив огонь зажигалки, он ловко налил спирту из флакона, долил водой из поллитровки, отломал хлеба, протянул Володе луковку.
– Ну-с, кушайте на здоровье, подполковник…
Стакан двумя пальцами было держать куда труднее, чем папиросу, и майор почти вылил Володе в рот обжигающую, пахнущую керосином жидкость. Потом выпил и сам, потом разлил остатки.
– Полегчало? – спросил Малевич.
– Похоже, что полегчало.
– Наше дело такое, – со вздохом сказал майор. – Мамке не пожалуешься.
Они еще посидели, покурили, потом майор заспешил «до дому, до хаты кушать», как он выразился. Когда затихли его тяжелые, грузные шаги, слышнее стал оркестр из сада, и под эти медленные медные мирные звуки старого вальса Устименко вдруг серьезно и даже деловито впервые подумал о самоубийстве. Это был такой простой выход из положения, что ему даже перехватило дыхание.