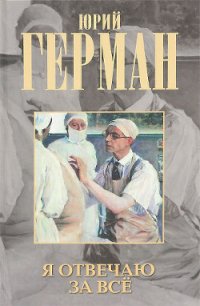Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Если у человека отнимают его дело, рассуждал он, если у него отнимают смысл его жизни, отнимают смысл самого понятия счастья, то для чего тянуть лямку, убивать время преферансом и спиртом и, по существу, затруднять других процессом своего доживания, не жизни, а именно доживания? Зачем?
Как просто, как предельно просто и ясно ему все стало после этого открытия…
И опять потянулись дни и вечера, похожие один на другой – с преферансом, шахматами, тихими выпивками, письмами от Веры, на которые он отвечал открытками. Сестра или нянечка писала со вздохом под его диктовку: «Лечусь, целую, настроение нормальное, привет товарищам по работе».
Другое он продиктовать не мог.
Ашхен и Бакуниной на их коллективное послание ответил бодро: «Самочувствие улучшается, настроение боевое, условия отличные, уход первоклассный, просьб и пожеланий не имеется». А Харламову вовсе не ответил, как не ответил и Родиону Мефодиевичу на его невеселое письмо, в котором тот сообщил, что лежит с инфарктом. Эти двое, ежели не своей рукой им напишешь, начнут разводить чуткость, а для чего?
Зачем затруднять немолодых и больных людей процессом своего доживания? Какой в этом смысл?
Как-то, когда уже зарядили длинные дожди, поздним тоскливым вечером он вышел из палаты своего первого этажа и сел в пустовавшее, с торчащими пружинами креслице дежурной сестры. То решение, которое он принял душной ночью в госпитальном парке, теперь окончательно и прочно укрепилось в нем, он только ждал случая, чтобы привести «приговор в исполнение». И нынче здесь, в кресле, как всегда, оставаясь наедине с собой, он стал думать о «конце», упрямо глядя своими всегда твердыми глазами на дверцу белого шкафчика с красным крестом. На душе у него было спокойно, он решительно ничего не боялся, даже Веру оставлять было не страшно. «В сущности, я только облегчу ее жизнь, – думал он, – слишком она порядочная, чтобы бросить меня сейчас, а веселого будущего со мной ей, разумеется, не дождаться». Так рассуждая, он все глядел на белую дверцу шкафчика, пока не заметил торчащий из замка ключ. Нынче дежурила всегда буйно-веселая, пунцово-румяная и черноглазая сестра Раечка, – это, конечно, она позабыла запереть свою аптеку.
Не вставая, Володя протянул левую руку – дверца открылась. Здесь, как и в других госпиталях, все было расставлено по раз навсегда установленному, привычному порядку; он знал и помнил этот порядок, так что долго искать ему не пришлось. Вот слева, на второй полочке: две таблетки – добрый сон, пятьдесят – тихая смерть. Сон, переходящий в смерть. А для того чтобы у Раи не было никаких неприятностей, он насыплет таблетки в карман, а склянку поставит обратно в шкафчик, таблетки тут не считаны…
С угрюмой радостью он выполнил свой план и, тяжело опираясь на костыль, ушел в палату, где обожженный танкист Хатнюк и флотский капитан-лейтенант Карцев, скучно переговариваясь, резались в «козла».
«Хоть бы в коридор их выманить!» – раздраженно подумал Устименко, ложась на кровать. Стакан с водой стоял рядом на тумбочке, но не мог же Володя начать процедуру глотания на глазах у этих людей: непременно спросят, что это он делает? И почему он «пьет» столько таблеток? «Отложить, что ли, это занятие на ночь?» – спросил он себя. И слабо усмехнулся, понимая, что ищет повод для того, чтобы с честью отложить приведение приговора в исполнение…
Аккуратно повесив халат на крючок, чтобы не высыпались из кармана таблетки, он разобрал постель и мгновенно уснул таким сном, как в молодости, когда уставал от работы, и проснулся с наступлением рассвета в палате уже серело, а в изножье его кровати кто-то стоял, какая-то тоненькая беленькая понурая фигурка…
– Это… кто? – шепотом спросил он.
– Это я – Мария Павловна, – тоже шепотом, но совсем уже тихим, едва слышным, произнесла докторша.
– Мария Павловна?
– Да. Вы не можете выйти… со мной? – еще немножко приблизившись к нему, спросила она. – На несколько минут… Если, конечно, вы хорошо себя чувствуете.
«Видела, как я таблетки украл, – со злобой подумал он, – испугалась, как-никак в ее дежурство. Или Рая видела».
– Дайте халат! – велел Устименко.
Он почему-то не любил эту докторшу, как, впрочем, не любил тут многих. Они ни в чем не были перед ним виноваты, все здешние доктора и докторши, но он, как казалось ему, знал, чего никогда не узнать им, и потому считал себя вправе смотреть на них насмешливо, неприязненно и даже презрительно.
«Герои в белых халатах! – раздраженно думал он, стараясь не оскользнуться калошкой костыля на кафельных плитах пола. – Спасители человеков! Ну какого черта нужно этой унылой деве от меня?»
Тоненькая, маленькая, с бесконечно усталым и каким-то даже слабым выражением светлых глаз, она растерянно и быстро взглянула в хмурое лицо этого всегда злого подполковника и опять попросила:
– Вам не трудно будет дойти со мной до ординаторской?
Нет, дело, видимо, вовсе не в таблетках. Тогда в чем же? В его политико-моральном состоянии? Может быть, Ашхен нажаловалась на краткость писем, и эта фитюлька сейчас будет проводить с ним душеспасительную беседу и объяснять ему, что такое основные черты характера золотого советского человека?
Пусть попробует!
Пусть рискнет!
Дорого это ей обойдется!
Ее постель на клеенчатом диване была нетронута – наверное, не ложилась. Конечно, она из таких, вся ее жизнь – подвиг! Не будет спать, хоть вполне можно поспать! Как же, она служит страждущему человечеству!
– Ну? – спросил он, садясь и пристраивая возле себя костыль. – Я слушаю вас.
– Видите ли, доктор, – начала она, и Устименко заметил, как вдруг эта тихая Мария Павловна зарделась и внезапно похорошела какой-то девичьей, незрелой, юной красотой. – Я бы хотела, доктор…
– Я ворон, а не мельник, – угрюмо прервал он ее, – какой я доктор…
– Нет, вы доктор, – преодолев свою мгновенную застенчивость и даже с некоторой силой в голосе произнесла Мария Павловна, – вы доктор, я знаю. И мне нужен ваш совет, понимаете, ваша консультация. Дело в том, что я слышала о вас от Оганян, и, в общем, я еще получила письмо. И тут как раз такой случай…
Маленькими, короткопалыми руками с тщательно обрезанными ногтями, все еще смущаясь, она разложила перед ним рентгеновские снимки – много снимков, толково и четко выполненных: здесь, в госпитале, был отличный рентгенолог. Не торопясь, осторожно Володя вгляделся в один снимок, в другой, в третий, потом тяжело перевел дыхание. Даже пот его прошиб – так это было неожиданно и страшно…
Точно такие же снимки рассматривал он тогда, в кабинетике очкастого доктора Уорда – там, в заполярном госпитале на горе. Точно так же был ранен английский летчик Лайонел Невилл, милый мальчик, воспоминание о котором до сих пор невыносимой тяжестью вдруг сдавливало сердце. Ну да, так же лежит пуля, так же, у корня легкого. Ну да, все так же, и что? Что хочет от него эта мучительно краснеющая девица?
Она говорила, а он слушал и перебирал снимки. Понятно, что эта операция известна ей только из литературы, этого незачем стесняться, – если он не ошибается, она молода? Четыре года тому назад кончила институт, и сразу война? Ну что ж, война для хирурга – это не четыре года, это все двадцать. Чем же, собственно, он может быть полезен? Она, вероятно, понимает, что его руки не пригодны сейчас к работе? Или ей, как и многим другим врачам, кажется, что этими вот двумя пальцами он может что-то сделать еще полезное? Так он заверяет ее, что она глубоко ошибается…
– Нет, я по другому поводу вас пригласила, – тихо произнесла докторша. – Мне, вернее не мне, а всем нам здесь нужен ваш совет, товарищ подполковник! Дело в том, что полковник Оганян говорила и из письма, которое мы тут получили, нам известно, что вы оперировали на легких…
«Из какого еще такого письма, – догадываясь, что письмо написала Вересова, и злясь на эту ее „деловитость“, подумал он. – Наверное, что-нибудь жалостное про калеку-врача…»
– Вы в вашем флоте много оперировали… – продолжала докторша.