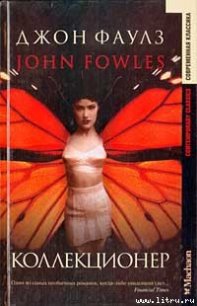Дэниел Мартин - Фаулз Джон Роберт (читать книги полные txt) 📗
– Меня как раз и пугает то, что должно идти между диалогами. Все то, что в кино за тебя обычно делает камера. И еще – необходимость найти угол зрения. Уголок, где можно было бы спрятаться.
– Да зачем тебе прятаться?
– Не могу же я просто взять и написать роман о сценаристе. Это было бы нелепо. Писатель, который никогда не был сценаристом, мог бы. Но я-то ведь сценарист, который никогда не был писателем.
– Пока не попробовал.
– Есть соблазн использовать кого-нибудь вроде Дженни Макнил. Смотреть на все ее глазами. Если бы я смог проникнуть в сознание молодой женщины.
– Мне кажется, она очень умна.
– Слишком умна, чтобы быть хорошей актрисой.
– Меня такая оценка страшно обидела бы. В свое время. Мы оба улыбнулись, опустив глаза. Я улыбался отчасти собственному двуличию: ведь уже тогда я знал, что сознание Дженни – не единственное женское сознание, куда я должен проникнуть. Напряжения, полюса, загадочная архитектура тайной реальности… Я поправил догорающие поленья в очаге, подбросил новые.
– Я не всерьез. Всего лишь легкий приступ твоего недуга.
– Ну должна сказать, что в твоем случае наблюдается поразительное отсутствие его симптомов.
– Ощущение у меня такое, что моя жизнь – словно здешние просеки и проселки… тянется в никуда меж деревьями и высокими зелеными изгородями. И дело вовсе не в том, что изгороди мне не нравятся. Просто наступает пора, когда хочется заглянуть поверх ограды. Видимо, для того, чтобы определить, где же ты находишься. – Джейн молчала, ждала: теперь слушателем была она. Послышался рокот мотора: по проселку шла машина, одна из тех, что изредка проезжали здесь по вечерам. Мне припомнилось, что и в Оксфорде, в ту ночь, так же шла машина, и я молчал, пока звук мотора не замер вдали. – Чувствуешь легонький клевок в печень. Даже не в свою, собственно, а всей культуры.
– Прометей в Авгиевых конюшнях?
Я улыбнулся:
– Может, и так. Но с чего же, черт возьми, начинать? У какого-нибудь русского вроде Солженицына дракон, которого надо поразить, – на каждом углу. Вопрос в том, где их искать в обществе, медленно сползающем в пучину забвения.
– Энтони сказал бы, что ответ содержится в самом вопросе.
– В медленном сползании? Но это ведь не внешняя штука, как, например, антигуманная политическая система. Это – в природе самой истории, ее целей.
Джейн произнесла – нарочито назидательным тоном профессорской жены:
– У истории нет целей. История – это поступки людей, преследующих свои цели.
– Сартр?
– Маркс.
– Интересно, а он мог себе представить народ, живущий лишь своим прошлым?
– Может быть, в этом и есть решение всех проблем?
– Как это?
В опоре на наши нравственные традиции. На веру в личную сознательность каждого. Вместо того чтобы тащиться в хвосте у Америки и стран Общего рынка. У их капитализма. – Наступил мой черед молчать и ждать; и снова я ощутил, как она борется с собой, решая, прекратить разговор или продолжать. Было очень похоже на попытку убедить неприрученного зверька взять пищу с твоей ладони; нужно было терпеть и ждать, как бывает, когда наблюдаешь за птицами. Зверек робко приближался. – Знаешь, я сейчас читаю работы еще одного очень интересного марксиста. Грамши.
– Да, я видел. – Она подняла на меня глаза. – У тебя в гостиной. – Я улыбнулся ей. – И опять, должен признаться, для меня это всего лишь имя. К сожалению.
– Он пытался выработать особую форму социализма, пригодную для тогдашней Италии.
– И потерпел неудачу?
– Если говорить о Муссолини и об итальянской компартии – сокрушительную. Но теперь он берет реванш. В нынешней КПИ.
– И его идеи осуществимы?
У нас, в Великобритании? Практически – нет. Но некоторые его идеи мне очень близки. – Она пристально смотрела в огонь. – Грамши тоже из марксистов-антиякобинцев… гуманист, несмотря на типично марксистский жаргон. В частности он критикует то, что сам называет «идеологической гегемонией». – Выговорив это, она чуть заметно поморщилась, но продолжала: – Он имеет в виду некий всепроникающий организационный принцип буржуазного общества: систему убеждений, которая все полнее и полнее замещает откровенно полицейское государственное устройство… это и есть истинный тоталитаризм. Идеологическая гегемония пронизывает все общество, упрочивает существующий строй через сознание – и подсознание – каждого человека. Действует, как утверждают марксисты, посредством мистификации. Искажает взаимоотношения с властью, запутывает жизненно важные вопросы, изменяет восприятие событий. Мешает людям правильно о них судить. Все на свете овеществляется, человек превращается в товар, который легко продается и покупается. Люди всего лишь вещи, предмет рыночной статистики, объект манипуляций посредством навязываемых образов и всего прочего. А это означает, что социалисты, как интеллектуалы, так и активные деятели, не могут воздействовать на обыденное сознание. Они становятся неорганичны обществу, их либо вытесняют на политическую обочину, изолируют, либо, если они и оказываются у власти, вынуждают следовать устаревшей ленинистской ереси. Создавать правительство, опирающееся на силу и бюрократический аппарат. – Она замолчала. Потом закончила с горькой иронией: – К сожалению, ему гораздо лучше удалось все это описать, чем объяснить, как создается идеологическая контргегемония. Диагноз поставлен. Рецепта нет.
Все это говорилось осторожно, немного смущенно; меня же не столько интересовал Грамши, сколько его толковательница: как всегда, мой интерес определяли не политические, а скорее биологические взгляды на жизнь: не так важно, что она говорит, как то, почему это говорится; почему мне дозволено услышать то, что было напрочь запрещено обсуждать вчера в Комптоне. Можно было принять это за комплимент, и все же… вполне могло подразумеваться, что мое политическое невежество и индифферентность снова и снова заслуживают упрека.
– Боюсь, я и сам в каком-то смысле стал жертвой этой гегемонии, приняв американскую точку зрения о нашей стране. Оттуда, из-за океана, она и вправду иногда выглядит безнадежно замкнутой и закоснелой.
– Из-за того, что они так о нас говорят?
– Из-за того, каковы они сами. Пусть даже девять десятых их энергии растрачиваются попусту, ее тем не менее хватает на то, чтобы они могли сделать свой собственный выбор. А мы, видимо, эту энергию вообще утратили. И даже если история – это поступки людей, сами-то мы уж точно потеряли внутреннюю убежденность в этом.
– Грамши увидел бы в этом следствие той самой гегемонии.
– Я это учитываю, Джейн. Я читал Маркузе 302. Просто мне кажется, это гораздо глубже, чем… манипулирование сознанием через масс-медиа и все остальное. Я думаю, большинство людей у нас в стране вполне осознают то явление, о котором говорит Грамши. Отсюда и безнадежность. С одной стороны, мы решаем, что история – продажный судья, вынесший нам несправедливый приговор; с другой – отказываемся подавать апелляцию. На самом-то деле я ведь с тобой не спорю. Я согласен, что мы, чуть ли не окончательно, стали жертвой социальных сил, контролировать которые не умеем. Но мне представляется, что причины здесь больше биологические, чем социальные. Не знаю. Слепота. Бессилие. Старость. Операции не поддается. Процесс идет естественным путем.
– И молодые должны смириться с таким диагнозом?
– Не уверен, что у них есть выбор. Культуры – как биологические виды – хиреют и умирают. Возможно, и национальный Geist 303 тоже смертен.
Теперь нам было неловко смотреть друг на друга; меж нами возникла вполне ощутимая, пусть и не очень значительная, напряженность. Я понимал, что играю роль маловера, утешителя Иова, но ведь это делалось еще и специально, чтобы заставить ее показать нам обоим, насколько искренен ее пессимизм.
– Отказываюсь верить, – сказала она, – что наши дети лишены возможности выбирать, в каком мире им жить.
302
Герберт Маркузе (1898-1979) – немецко-американский философ, один из основателей Франкфуртского института социальных исследований.
303
Geist – дух (нем.).