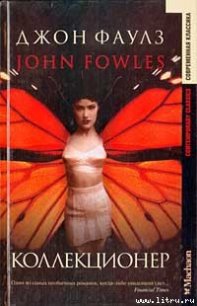Дэниел Мартин - Фаулз Джон Роберт (читать книги полные txt) 📗
– Но согласись – возможность такого выбора становится все более ограниченной.
– Физически – возможно. Но не этически.
Призрак Энтони или что-то иное, некая их общность, таившаяся в самой глубине, за всеми их разногласиями, вдруг ощутимо встала между нами. В противоположном углу комнаты, на обеденном столе горела лампа, но там, где мы сидели, лицо Джейн освещали лишь красные отсветы огня да изредка вспыхивавшие языки пламени. Она сидела, склонив голову, снова уйдя в себя… и я понимал, что продолжение спора лишь еще больше отдалит нас друг от друга. Мы снова были заложниками пресловутой теории сдержанности, собственного англичанства.
– Знаешь, мне и самому хотелось бы поверить, что это так.
– Понятно.
Но на меня она не взглянула. Я встал.
– Может, выпьем еще виски?
– Да нет, право, я… – Она посмотрела на часики: этот жест обычно требует следующего шага или неминуемо дает понять, что скуку терпят из вежливости. – А у вас тут режим деревенский? Рано в кровать, рано вставать 304?
– Вовсе нет. Но если ты устала…
– Посидим еще чуть-чуть. Такой огонь красивый. Я поднял пустой бокал.
– Ты точно не будешь?
– Точно.
Я пошел и налил себе еще виски; глянул украдкой на Джейн. Она снова пристально вглядывалась в огонь, целиком поглощенная созерцанием пламени. В волосах ее сейчас не было серебряного гребня, который она, видимо, любила носить; а может быть, она носила его как талисман, как тюдоровские женщины носили любимые драгоценности: я видел на ней этот гребень постоянно, не только в нашу первую встречу, но и позже; казалось, его отсутствие и этот толстый, мешковатый свитер, явная неформальность ее одежды и поведения, сокращали разделявшее нас расстояние. В возникшем чувстве не было ничего сексуального, было лишь ощущение тайны, загадки… оттого что я видел ее вот так, сливались воедино настоящее и прошлое. И хотя я понимал – она чувствует недоговоренность, ведь слова опять оказались бессильны, знал – непогрешимая Пифия, несмотря на всю свою самоиронию, снова выносит обо мне пророческое суждение, – я все равно не хотел бы видеть ее иной, чем она была: непредсказуемая, неисправимая, и в самом деле некоторыми своими качествами подтверждающая обиженное определение Нэлл: увертливый угорь. Мне хотелось бы задать ей множество вопросов: почему, например, она накануне отказалась обсуждать то, от чего не стала уклоняться сегодня? какие новые мысли пришли ей в голову в связи со смертью Энтони? насколько серьезно она сама верит в то, что сказала обо мне Каро? Но я понимал, что недостаточно знаю ее – теперешнюю.
Я вернулся и снова опустился в качалку. Джейн спросила, какое дерево горит сейчас в камине. Я ответил: яблоня. Вместе с буком и кедром она входит в великую троицу лучших каминных дров. Она качнула головой, будто впервые услышала об этом, и снова замолчала. Я смотрел, как она вглядывается в огонь, потом отвел глаза; молчал, не желая нарушить ее молчание. Это упрямое желание уединиться, уйти в себя, видимо, постепенно нарастало за годы, проведенные с Энтони, отчасти порожденное теми пустынями – «запретными зонами», – что разделяли их в семейной жизни, но корнями уходящее в гораздо более отдаленные времена… до бутылки шампанского, закинутой в реку, до того, как она подарила мне себя… к той маленькой девочке, которая так и не смогла простить недостаток любви, недоданной ей в решающий период ее жизни. Этим же объяснялось и ее постоянное отречение от собственного образа в студенческие годы, то, что мы принимали за врожденный талант – энтузиазм, актерство, смена стилей, независимость. На самом деле все это, по-видимому, было просто маской, выработанной ради того, чтобы скрыть застарелый шрам. Главный секрет ее брака заключался в том, что и Энтони должен был «обратиться», но не в иную веру, а к нуждам этого глубоко травмированного и незащищенного ребенка.
Попытка, должно быть, с самого начала была обречена на провал – возможно, из-за тех самых идиотских рассуждений о «шагах во тьму»; возможно, уже тогда она наполовину сознавала эту обреченность, но сделала отступление невозможным, сковав себя цепями католичества. Неосознанная потребность одержала верх над сознательным суждением.
Я сомневался в том, что Энтони по-настоящему понимал уготованную ему роль. Он был одарен интеллектуально, был верным, порядочным и во многом терпимым человеком, но оказался обделен эмоционально, а страсть ему вообще была чужда. Сам он вырос в нормальной семье, детство его было счастливым – как мог он разделить ее тайное страдание, даже если бы соотношение между интеллектом и чувствами у него было гораздо более сбалансированным? Джейн неминуемо должна была укрыться за новой маской – более сухой и ироничной, более холодной; облечься в прочную защитную броню, настолько непроницаемую, что в конце концов все ее существо оказалось заковано в твердую скорлупу… этим, видимо, и объяснялось то спокойствие, с каким она восприняла сообщение от своего друга из Гарварда о разрыве с ней. Друг этот, каким бы иным он ни казался по своим внешним проявлениям, по сути, очевидно, был еще одной ипостасью все того же Энтони, и связь их могла служить лишним доказательством того, что изначальная проблема Джейн так и не нашла разрешения.
Я начинал различать цепочку неясных точек, первые, еще смутные очертания созвездия, определившего ее судьбу, начинал видеть то, чего не смог объяснить себе в былые годы: ее частое молчание, попытки убедить окружающих, что у нее нет своего лица (что постоянно опровергалось ее поведением), непрестанные броски из стороны в сторону – то она была человеком, тщательно аргументирующим каждый свой шаг, то существом – как сама утверждала, – до предела безрассудным; она могла декларировать что-то и тут же отказаться от собственных деклараций; она не питала надежд в отношении себя самой, но не мирилась с утратой надежд у кого-либо еще. И к тому же эта о многом говорящая фраза о душе, жаждущей значительного поступка, и странный политический шаг, который она предполагала совершить взамен… и постоянно подразумевающиеся побудительные мотивы, беспокойство о судьбах общества, тревога, неумелое атеистическое толкование пересмотренных ею старых христианских принципов ухода от реальной ответственности. Я слишком часто слышал – не далее чем в паре миль от комнаты, где мы сидели, – как мой отец читает проповеди о всеобщей любви и братстве в лоне христианской церкви, чтобы еще и теперь тратить время и силы на сугубо риторическое, абстрактное сострадание подобного рода.
Разумеется, это сравнение Джейн с моим отцом несправедливо. Она не читала проповеди, наоборот, из нее все это словно клещами приходилось вытягивать; и она гораздо яснее, чем когда-либо он, осознавала разницу между символом веры и действием, doxa и praxis 305. Но ее, точно так же, как меня, сформировала антипатия. Мой отец толковал о любви, но редко оказывался способен проявить это чувство на деле; ее родители вообще любви не проявляли. А если говорить о женском участии, ее случай оказался гораздо тяжелее. Я не мог обвинить мать, которой никогда не знал, в отсутствии любви ко мне. Но отношение матери к Джейн тенью лежало на всей ее жизни, вплоть до последнего времени: эта женщина так никогда и не сумела выбраться из плена суетных и хорошо обеспеченных 1920-х – годов собственной юности.
Эти мои слова теперь потребовали гораздо больше времени, чем тогдашние мысли… или чувства – потому что к такому заключению я пришел скорее путем интуитивного прозрения, чем сколько-нибудь сознательного размышления. И правда, то, что происходило в тот вечер, казалось странным, даже парадоксальным: я чувствовал, что – несмотря на все внешние различия, к которым еще надо было привыкнуть после всех лет, что нас разъединяли, на изменения в поведении, внешности, взглядах, на отсутствие былого влечения друг к другу, на все многочисленные обстоятельства, сделавшие нас чужими, – несмотря на все это, я, пожалуй, видел ее теперь яснее, чем когда бы то ни было раньше. Тщеславие тоже сыграло свою роль: это был один из тех редких моментов, когда соглашаешься объяснить возросшую глубину понимания (в противоположность предубежденности) тем, что повзрослел. Я ощущал что-то вроде ироничной нежности времени, заботливого движения его колес: ведь оно снова свело нас вместе в этой тишине, в этом молчании; и хотя вряд ли сейчас ее связывало со мной родственное – сестринское – чувство, в ней все-таки жило воспоминание о нем. И конечно, призрак плотской близости с ней, единственный момент познания, слияния с этой женщиной все еще чуть заметно витал здесь, в комнате, точно так же, как призраки Ридов никогда не покидали дом, у очага которого мы с Джейн сидели. Но я знал – то, что Джейн была здесь, каким-то образом отвечало глубочайшей потребности моей души в соотнесении реальных и вымышленных событий внутри не покидавшей моих мыслей конструкции; соединяло воедино реальность и вымысел; оправдывало и то и другое.
304
Английская поговорка: «Рано в кровать, рано вставать – горя и хвори не будете знать!»
305
Doxa и praxis – воззрения и практика (греч.).