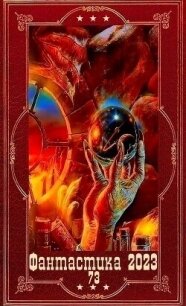Мальчики и другие - Гаричев Дмитрий Николаевич (книги бесплатно без .TXT, .FB2) 📗
Когда он, выждав наверняка, чтобы все убрались, наконец вышел наружу, день уже ослабел и низкое солнце текло сквозь листву, как опрокинутый мед. В парке пахло теплой пылью, горьким деревом, мокрой газетой; вечерняя свежесть еще собиралась вдали, за границами города. Муниципальные статуи, видимые в конце главной аллеи, в это время стояли мечтательны, будто бы глубоко в море, голая белизна их спадала за солнцем, сменяясь карандашным свинцом. На пожарном дворе проступали чахлые голоса; Никита приблизился, чтобы разобрать слова, но разговор схлопнулся в призрачном воздухе, и он уже не поручился бы, что вообще что-то слышал. Прилегающий мир был плутоват, но кто его сделал таким, было невыяснимо; вероятно, у муниципалов даже в лучшие годы, при лучших деньгах не хватило бы выдумки, чтобы устроить все так. Это как будто толкало к неважной догадке, что, хотя те и были десятки раз уличены в самом грязном коварстве, главная и невыговариваемая ложь происходила не от них; парк дышал ею не оттого, что они навтыкали здесь гипсовых нимф, наводивших страшок на выгуливаемых детей, но откуда тогда вырастал этот древний подвох, не подвластный никакой поправке, Никита не мог даже предположить. Гонимый тоской, он прогулялся к статуям, стараясь не глядеть перед собой; так узналось, что ступни скульптур исцарапаны склочными надписями с затруднительной датировкой, но ему было пусто читать это; подождав у подножий, он закрыл глаза и прошел всю дорогу обратно вслепую, нигде не запнувшись. Это не помогло; от беспомощности он почти было вздумал вернуться в гримерную, чтобы забрать шампанское, но сумел устоять на пороге ДК. Еще медля, он вспомнил об униженном Центавром пианино, и ему захотелось устроить из дрезденского инструмента костер; этому же огню он скормил бы и все, к чему он прикасался сегодня сам. Дом стоял перед ним как чужой, в верхних окнах его проплывала осоловелая немота. В городе прозвенел и смолк их единственно целый трамвай, ходивший по прихоти главы от стадиона до нового кладбища; звук его был так короток и так прицелен, и Никита впервые за долгое уже время ощутил слезы в глазах. Почерков в самом деле сослужил бы ему лучшую службу, если бы удержал у себя в одеялах, сообщив всем, что исполнитель бессилен восстать из постели, но пенсионер-полководец не был падок на вольности; ко всему Трисмегист и Центавр, несомненно, отыскали бы любой другой способ выстегнуть Глостера с нужным им блеском и с тем, чтобы Никита смотрел. Он почувствовал, как спасительное равнодушие наконец наполняет его, словно приторный газ, и тогда двинулся прочь.
На проспекте, до самого взятия мэрии пролежавшем под скейтерами, вывести которых потом оказалось труднее, чем вокзальных охранников, шуршал редкий песок, скользила слабая тьма; это было кружковое время, и он мог не опасаться, что столкнется на улице с кем-то кроме смотрителей, всегда задававших ему одни и те же вопросы. Без дела широкий, ничем не заслоненный от солнца проспект, кончавшийся так далеко за хранилищами, что Никита и раньше, околачиваясь с никакими приятелями, ни разу туда не забредал, еще сохранял под асфальтом их высосанную юность; он без труда вспоминал ее вкус, клейкий налет на подушечках пальцев. Лето разматывало их, как ленту из разломленной кассеты, тянуло за собой, уходя и смеркаясь; облака через день обещали большую головомойку, но проливались в ночи, когда все уже спали. Жара плотнела у стен, становясь словно масло; на качелях детских городков в полдень можно было поджаривать тосты. Черные стекла спортбаров не отражали их, когда они проходили мимо. Спутниковая посуда, отвернутая к заречью, дразнила своим олимпийским презрением; уже позже Никита подсказывал рувимовским стрелкам выполнить соревновательный рейд по тарелкам, но у тех было много других развлечений и дел, и Никитина выдумка не захватила их. Розоватые точечные новостройки с пиццей и адвокатами в нижнем этаже стояли не существуя, готовые обрушиться от первого щелчка. Музыка, обдававшая их из окон и проезжих машин, проще всего объясняла Никите, что ему здесь не рады; но вечерние лица идущих домой с производств были неизлечимо печальны, и он, как бы внимательно ни наблюдал, не умел различить в них заметной угрозы, о которой много слышал, почти никогда не веря. Даже то явное недобродушие, которым несло от чуть старших, еще только снявших жилье на отшибе, не мешало Никите: он знал уже, что в этом месте им не принадлежит ничего и чем искренней они верят в обратное, чем азартнее обрастают искусственным хламом, тем острее сужается мерклое поле, в котором они все стоят как в колодце, и тем ниже склоняется к ним настоящая ночь, из которой никому не будет возврата.
Все это подтвердилось в кратчайшее время после первых принятий: еще не настал июнь, как поглумщики из «Чабреца» выставили вдоль батутного центра весь младший состав салонов связи, не успевших свернуться до развода мостов, и сперва молча, но со значением роздали им респираторы в желтых коробках, а потом пригласили назавтра в первый цех опытного завода на заделку фреоновой течи, способной распространиться на остальной город и бесславно сказаться на общем здоровье. На другое утро сторожевая команда с магистрали рассказала, как согбенное полчище консультантов, обойдя по болотцам расслабленные их посты, удалилось на север, не удерживаемое ни окриком. Эта шутка, однако, сработала так, что немалая свора пройдох из отделов продаж и доставки, прослышав о чудесном исходе соратников, решилась повторить этот путь; в результате непредупрежденной пограничной команде пришлось становиться в ружье и отгонять наступавших обратно в болота. Никита не знал, был ли кто-то смертельно задет в переделке, но история о безуспешном рывке, стремительно облетевшая всех, кажется, послужила тому, чтобы предупредить новые вылазки; впрочем, к их первой зиме ставка уверилась, что в республике нет большого настроения к бегству, и убийц из «Аорты» на границе сменили вдумчивые приспешники Гамсуна, вооруженные одною травматикой. Что сожители остаются устойчивы и после потянувшихся уже с августа недопоставок, отключений и слухов о бесчинствах Центавровых подданных, не было удивительно, но в спокойствии их узнавалась все та же сырая, тряпичная скука, что и при предыдущем устройстве. Трисмегист бы ответил на это, что земля еще не изжила свою скорбь и что время, нужное ей для такой работы, никому не дано рассчитать; он сказал бы: мы делаем, что нам наказано и что было наказано тем, кто здесь обретался до нас, но у тех не нашлось сил даже на то, чтоб прибраться там, где они гуляли с собственными детьми, и теперь это наша война, фронт за фронтом мы движемся через нее без права на отдых и слабость, и так далее, далее; оттого, что за год с небольшим он приучился угадывать эти речи на два или три хода вперед, любви к ним в Никите не убыло, но верить им он стал не то чтобы меньше, а как-то сложней, и сложнее всего заходили те самые «скорбь» и «война», о которых, как он позволял себе подозревать, вольнокомандующий имел представление скорее литературное, но и в этом, еще вероятней, проигрывал библиотечным насельникам.
Цветы Никита оставил умирать около старика, одною рукою умылся на кухне и на сдающихся ногах добрался до кровати; едва улегшись и не успев ничего с себя снять, он провалился в вязкий полусон, словно в подпол, заполненный хвойными ветками. Первым к его изголовью склонился совсем пьяный Гленн, не могущий связать и двух слогов, но Никита почувствовал, что тот ему благодарен; Гленн сменился Центавром с роялем во рту, долго истекающим мазутной кровью, но не издающим при этом ни звука; Центавр же перетек в Глостера, завернутого в голливудский халат и расчесанного как на последний звонок: он покачивался взад-вперед, надуваясь, как парус, и темные губы его искажал то и дело берущийся глитч, а потом голова греко-римлянина стала медленно, но неотступно поворачиваться кругом, пока Никита не увидел, что на затылке у Глостера вылеплено, как из гипса, второе лицо, равно удивленное и свирепое, и такой же глитч вьется на нем, пачкаясь и треща; скоро звук этот стал непереносим, и Никита свернулся в клубок, заткнув уши, но не переставая смотреть, как цифровой спазм расползается по всему телу Глостера, измельчая его в светло-серый песок; когда это закончилось, на освободившемся месте появился настороженный Трисмегист в армейской форме давнишнего кроя, словно бы что-то ища или лишь притворяясь. Исполнитель разжал стиснутые виски и, опомнившись, оледенел: что во всей республике не было никого, кто видел бы вольнокомандующего во сне, знали даже в необучаемом крыле детсовета, где путали лево и встать; настоятель «Аорты», тоже обуреваемый хлипкой трясцой, близоруко вглядывался в темноту, чуть согнувшись в коленях и животе, каменные его плечи, казалось Никите, гудели от натуги, а лицо имело оливковый цвет, как у псковских святых. Можно было подумать, что и сам Трисмегист озадачен своим возникновением здесь и, пряча замешательство, пытается определить, где выход; Никита почти пожалел его, в оскорбительной этой одежде похожего на опереточного инженера. Он вспомнил чувство исполненности, овладевшее им после того, как Трисмегист простер над ДК свой покров; и даже никчемные слова похвалы, сказанные перед самым закланием Глостера, еще отдавались в Никите запоздалым теплом. Он знал, что республика выживет и ускользнет в одном вольнокомандующем, даже если осыплются все, кто составляет сейчас ее общее тело; но видение все продолжалось, не теряя недоброй отчетливости: призрак не двигался с места, при этом все более складываясь в животе, как от прибывающей боли, а потом его необъяснимо разбухшие губы чавкнули и разошлись, роняя наружу прозрачную воду, сперва только горсть, тотчас же потерявшуюся где-то на одежде, но за ней из Трисмегиста выплеснулся уже хороший стакан, провожаемый крупной конвульсией; призрак выбросил руки в стороны, повис на невидимых стенах; тело его издало раздирающий скрип, и изо рта хлынул прямой серый столп толщиной с железнодорожный рельс. Обдаваемый колкими брызгами, долетавшими снизу, Никита закрылся плотней, оставив между ладонями щель для глаза: Трисмегиста почти не трясло, но чем больше воды извергалось из вольнокомандующего, тем глубже засасывало в черноту его щеки и лоб; и Никита понял, что больше не может терпеть это молча и ждать, пока все перестанет само по себе. Тогда он закричал детским голосом, словно пятиклассник, заталкиваемый врагами в девичий туалет; откликаясь Никите, снаружи взвилась прежняя дикая сигнализация, и звук ее был будто в помощь ему, одинокому, как никогда, перед зрелищем гибнущего Трисмегиста. Уже неузнаваемый, тот зарокотал подобно стиральной машине и наконец пал руками вперед, превращаясь в бесформенный ком, шаткий, словно желе; отирая слезы, Никита добрался до края кровати, чтобы лучше увидеть, что произошло: черный холм, колыхающийся на полу, еще долго сдувался, свища, и вода, заливавшая комнату, билась о стены с деревянным стуком, как крышка погреба. Никита не мог вспомнить, когда ему последний раз было так страшно, живьем или во сне; стиснутые его зубы были готовы рассыпаться от напряжения. В мокрой тьме, боясь еще пошевелиться, он смутно услышал, как к нему в дверь позвонили, совсем далеко; Никита не стал даже думать, кому он мог понадобиться теперь, уступая с потолка опускавшейся слабости, неустойчивой ее теплоте.