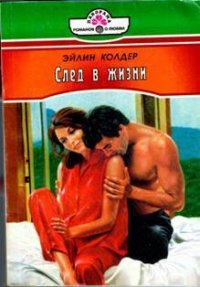Эйлин - Мошфег Отесса (библиотека электронных книг txt) 📗
Помню один День независимости: мне тогда, должно быть, было двенадцать лет, потому что Джоани на четыре года старше, и она за месяц до того получила водительские права. Мы вернулись домой с пляжа и увидели, что наши родители устраивают на заднем дворе барбекю для всего полицейского управления Иксвилла — редкое общественное мероприятие для семейства Данлоп. Один новобранец, которого я иногда видела в городе — помнится, у его младшей сестры было какое-то заболевание, сделавшее ее инвалидом, — уселся рядом со мной за стол для пикника. Мой отец еще пошутил, обращаясь к этому парню, что мы с Джоани настоящие «нимфетки». Значение этого термина дошло до меня лишь несколько лет спустя, но я никогда не забуду, каким тоном он сказал это, и я по-прежнему обижена на него. Помню, мне было неприятно сидеть на неструганой сосновой доске, уложенной на два ведра, наполненных камнями, — импровизированной скамье для пикника. Я пошла в дом, чтобы переодеться из пляжной одежды в обычную, тот парень последовал за мной на кухню и попытался поцеловать меня. Я отдернула голову назад и отвернулась, но он схватил меня за плечи, повернул к себе спиной и завел мои руки назад, держа за запястья. «Ты арестована», — пошутил он, потом запустил руку мне в шорты и ущипнул меня. Я убежала на чердак и просидела там до ночи. Никто не хватился меня. Я знаю, другим девушкам случалось подвергаться и худшему, и я сама в дальнейшем претерпела немало, но этот эпизод был почему-то особенно унизительным. Психоаналитик, должно быть, назвал бы это «формирующей травмой», но я мало знаю о психологии и отвергаю эту науку от начала до конца. Мое мнение таково, что за людьми, выбравшими эту профессию, нужен глаз да глаз. Если б мы жили несколько столетий назад, полагаю, их сожгли бы на костре как ведьм и колдунов.
А в тот субботний вечер в Иксвилле виски быстро закончился. Отец уснул, а я спустилась в подвальный туалет, мучаясь отрыжкой от спиртного, бурлящего в желудке, и едва ли не лопаясь с другого конца от принятого слабительного. Я была пьяна, меня шатало, и я могла бы погибнуть, скатившись с лестницы, если б не цеплялась за ее занозистые перила, точно за поручни тонущего корабля. Однажды в детстве я споткнулась и упала с этой лестницы, когда удирала от матери, которая гонялась за мной с деревянной ложкой и кричала: «Прибери свою комнату!» — или что-то вроде того. Падая, я разбила губу и ударилась головой, а еще оцарапала ладони и колени, когда приземлилась на твердый земляной пол. Помню, как я смотрела от подножия лестницы вверх, на желтый прямоугольник света, падавшего из кухни, и в этом прямоугольнике появился силуэт моей матери, как будто вырезанный из бумаги. Она ничего не сказала мне, просто закрыла дверь. Сколько часов я просидела там, внизу, мучаясь от боли и ужаса? Темнота, пыль и паутина, запах пронзительной сырости, серые стальные инструменты в углу, бойлер, дряхлый унитаз, пахнущий застарелой мочой, со смывной цепочкой, свисающей откуда-то из-под потолка. Мыши. Полагаю, что именно в тот день я победила свой детский страх темноты. Никто не явился ко мне — никакой злобный дух не напал на меня, никакой неупокоенный призрак не попытался выпить мою душу. Меня оставили в подвале одну, и это было просто больно.
К полуночи я снова лежала на холодном подвальном полу, тяжело дыша от усилий, которые понадобились моему телу, чтобы опустошить кишечник — хвала слабительному. Из туалетного бачка с шумом бежала вода. Помню, какая-то часть меня желала, чтобы темные ангелы, которыми бредил мой отец, материализовались из сырых теней и утащили меня в преисподнюю. Увы, никто не явился и на этот раз. Темнота вращалась и вращалась вокруг меня, потом остановилась, и я вылезла по лестнице из подвала, прошла через холодную кухню и поднялась на чердак, где и уснула почти мгновенно — измотанная, умиротворенная и невероятно жалкая.
Воскресенье
В то воскресенье утром я проснулась на своей раскладушке на чердаке, страдая похмельем, а отец уже звал меня помочь ему приготовиться к утренней мессе. Это означало — застегнуть ему рубашку и поднести бутылку к его губам, потому что из-за трясущихся рук сам он сделать это был не в состоянии. Мне самой, конечно же, было не очень хорошо, в глазах по-прежнему все плыло из-за выпитого накануне виски, а тело из-за вчерашнего действия слабительного казалось выжатой тряпкой.
— Мне холодно, — сказал отец, дрожа. Он дернул себя за небритый подбородок и подмигнул, глядя на меня, словно бы приказывая: «Принеси бритву». И я ее принесла. Я взбила крем для бритья в пену и побрила отца прямо в кухне, над раковиной, заваленной грязной посудой; рядом стояла салатница, полная сигарного пепла, тут и там валялись заплесневелые куски хлеба, зеленые, словно старая монета. Может быть, для вас это звучит не очень страшно, но жить здесь было довольно неприятно. Перемены настроения моего отца ужасно утомляли. Он часто бывал раздражен, и я боялась случайно рассердить его — хотя иногда я сама была так сердита, что старалась злить его нарочно. Мы играли в эту игру, словно старая супружеская чета, и он всегда выигрывал.
— От тебя чертовски воняет, — сказал отец мне в то утро, когда я проводила бритвой по его подбородку.
Конечно же, иногда мне хотелось убить его. В то утро я могла перерезать ему горло. Но я ничего не сказала: я не хотела, чтобы он знал, как сильно задел меня. Мне было важно не дать ему понять, что у него есть власть унизить меня. А еще важнее было скрыть, как сильно мне хочется уехать от него подальше. Чем больше я думала о том, чтобы покинуть его, тем больше боялась, что он может последовать за мной. Я воображала, что он поднимет всех своих друзей из полицейского управления, обзвонит весь штат с требованием высматривать мою машину и расклеить объявления с моим фото и надписью «Разыскивается» по всему Восточному побережью. Но на самом деле все это были просто фантазии. Я знала, что он забудет обо мне, как только я исчезну. И, похоже, так он и сделал. В те времена я размышляла о том, что если мне предстоит уехать, кто-то другой должен позаботиться о моем отце вместо меня. Его сестра могла бы помочь в этом. Джоани могла хотя бы раз приложить усилия. Я говорила себе, что нельзя все обязанности взваливать на меня и он вполне без меня обойдется. Что может случиться, даже в самом худшем варианте?
Когда в тот день моя тетя заехала за ним, она посигналила от дороги, и мы вышли из дома. Ее звали Рут, и она была единственной сестрой моего отца — впрочем, братьев у них тоже не было. Мой отец ждал на крыльце — о, почему бы одной из тех сосулек не отломиться и не пробить ему голову? — пока я шла по подъездной дорожке к своей машине, чтобы достать из багажника его ботинки.
— Не эти, — окликнул он. — Они дырявые.
Я достала другие и подала ему.
— Сойдет, — сказал отец.
Тетя едва посмотрела на меня — она морщилась и жмурилась от снежного блеска. Проходя мимо ее машины, я помахала ей рукой, но она не махнула в ответ. На крыльце я завязала шнурки отцовских ботинок и направила его в нужную сторону.
Сейчас, задним числом, я вижу, что была очень хорошей дочерью: застегивала отцу рубашку, завязывала ему шнурки. Полагаю, в глубине души я и тогда знала, что я хорошая. В том и состояла моя основная дилемма: я чувствовала, что хочу убить отца, но не хотела, чтобы он умирал. Думаю, он это понимал. Вероятно, я сама сказала ему об этом в предыдущий вечер, несмотря на свою инстинктивную скрытность. Мы часто сидели и пили вдвоем — я и мой отец. Я смутно помню, что в тот субботний вечер я сидела, уронив голову на стол, и зевала, глядя, как он сидит с бутылкой виски в одной руке и с бутылкой джина — в другой. «Это неприлично, Эйлин», — сказал отец, наверное имея в виду то, что я положила ногу на ногу, а моя помада размазалась на половину лица. Для нас в этом не было ничего необычного. Мы не были дружны, но иногда разговаривали друг с другом. Мы спорили. Я размахивала руками. Я вполне могла сказать слишком много. То же самое я делала и в более поздние периоды своей жизни, когда пила с другими мужчинами — в основном с глупыми мужчинами. Я ожидала, что им будет интересно все обо мне. Я ожидала, что они расценят мою пьяную болтовню как некий жест робкого заигрывания, словно я говорила: «Я просто ребенок, невинный в своем скудоумии. Разве я не милашка? Люби меня, и я закрою глаза на твои промахи». С теми, другими, мужчинами эта тактика приносила мне краткие периоды близости, пока я не разочаровывалась и не начинала понимать, что осквернила себя — в первую очередь тем, что вообще обратила внимание на этих мужчин. Но мне никогда не удавалось завоевать таким способом теплое отношение отца. Я бормотала что-то о своих замыслах, зачитывала едва различимые аннотации на задних обложках книг, лежавших на кухонном столе, разговаривала о том, как я отношусь к себе, к жизни, к временам, в которые мы живем… Всего после нескольких глотков я могла стать очень красноречивой. «Люди все время живут так, как будто всё в порядке. Но это неправда. Всё совсем не в порядке. Люди умирают. Дети голодают. Бедняки замерзают насмерть где-то там, снаружи. Это нечестно. Это неправильно. И всем, похоже, наплевать. Бла-бла-бла, говорят они. Папа. Папа! — Я хлопнула ладонью по столу, чтобы привлечь его внимание. — Мы в аду, ведь так? Это ад, верно?» Он просто закатил глаза. Это взбесило меня.