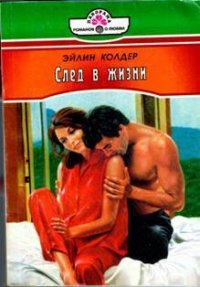Эйлин - Мошфег Отесса (библиотека электронных книг txt) 📗
Когда в то утро отец уехал в церковь, я приготовила себе яичницу с кетчупом и подогрела пиво на плите, чтобы полечиться от похмелья. Это, конечно же, не сработало. Даже не пробуйте. Но было приятно поесть после того, как накануне вечером в подвальном туалете я полностью опустошила свою пищеварительную систему. Мне казалось, что я начинаю с пустого места, с чистого листа, хотя, кажется, в то утро я не принимала душ. Я ненавидела душ, особенно зимой, когда горячая вода текла неравномерно. Я предпочитала мариноваться в собственной грязи так долго, как только могла ее выносить. Не могу сказать точно, почему я это делала. Это определенно выглядит жалким методом бунтарства, и более того, это внушало мне постоянное беспокойство, что другие учуют запах моего тела и сочтут меня такой же отвратительной, как этот запах. Даже мой отец сказал, что от меня чертовски воняет. Я облачилась в старую воскресную одежду моей матери: серые брюки, черный свитер, шерстяная парка с капюшоном, — надела боты и поехала в библиотеку. Я как раз закончила пролистывать краткую историю Суринама и книгу о том, как предсказывать будущее по звездам. В первой из них были великолепные изображения почти обнаженного мужчины и полуголой старухи. Я вспоминаю фотографию обезьянки, сосущей грудь женщины, но, возможно, я просто придумываю. Я любила подобные извращенные вещи. Мой интерес к звездам понятен: я хотела, чтобы что-нибудь предсказало мне светлое будущее. Я могу представить, как я тогдашняя заявила бы, будто сама жизнь подобна книге, взятой в библиотеке, — что-то, что нам не принадлежит и с чем в конце концов придется расставаться. Как глупо!
Вряд ли я когда-либо по-настоящему понимала, что значит быть католиком. Когда мы с Джоани были маленькими, мать каждое воскресенье отправляла нас в церковь с отцом. Джоани, кажется, никогда не протестовала, зато просто сидела во время литургии, читала книги про Нэнси Дрю и жевала жвачку. Она отказывалась преклонять колени и вставать в рост вместе с остальными, произносила «бла-бла-бла» вместо «Отче наш», крутила пряди своих волос. В девять или десять лет моя сестра уже была достаточно хорошенькой и дерзкой, чтобы отец не обращал внимания на ее дурные манеры. Но я в пять лет была по-детски пухлой и бледной, с маленькими, вечно прищуренными глазами — только в тридцать лет до меня дошло, что мне нужны очки, — и полагаю, что вокруг меня витала аура сомнения и беспокойства, и это заставляло отца стыдиться. «Не позорь меня», — бормотал он, когда мы поднимались по ступеням церкви. Со всех сторон его приветствовали улыбчивые, дружелюбные, даже в чем-то подобострастные члены общины — должно быть, эти иксвиллцы считали, что следует поддерживать добрые отношения с человеком в синей форме. Папа, конечно же, всегда надевал форму в церковь. А может быть, они просто побаивались его. Меня же он определенно пугал. Помню, что когда мы приезжали к мессе, он оставлял револьвер в бардачке — похоже, в те времена отец расставался с оружием только в такие минуты. «Доброе утро, офицер Данлоп», — обязательно говорил кто-нибудь. Отец обменивался с ними рукопожатиями, одной рукой обнимал за плечи Джоани и клал ладонь мне на макушку, предупреждая, чтобы мы прекратили болтовню. Если я когда-либо задавала ему вопрос или вообще привлекала его внимание, он смотрел на меня сверху вниз, словно бы говоря: «Веди себя нормально, сделай радостное лицо, делай все как положено». Но я неизбежно разочаровывала его. Когда кто-то из его друзей пытался в знак расположения ущипнуть меня за щечку, я немела или путалась в словах, морщилась и в конце концов ударялась в слезы. Я ненавидела ходить в церковь.
«А почему миссис Данлоп не пришла сегодня утром?» — всегда спрашивал кто-нибудь. Отец выдумывал какой-нибудь предлог: мол, она нехорошо себя чувствует или поехала навещать свою мать, однако передает свои наилучшие пожелания. Моя мать никогда не ходила к мессе. Единственный раз на моей памяти, когда она вообще пришла в церковь, — это похороны моего деда. Мы возвращались домой к вечеру воскресенья — нам с Джоани приходилось высиживать бесконечные часы за изучением Библии в воскресной школе, которую вела пожилая монахиня, однако ничто из этих поучений не проникало в мое сознание. К этому времени в доме становилось чуть-чуть больше порядка, чем перед нашим уходом, а мать лежала на диване в гостиной, читая журнал и придерживая между колен бутылку вермута; сигаретный дым плавал над ее головой в тусклом свете вечернего солнца, подобно нависающей грозовой туче.
«Обещаешь, что будешь навещать меня в аду, Эйлин?» — спрашивала она.
«Иди в свою комнату», — приказывал отец.
Мать закатывала глаза, видя суеверность моего отца, то, как он крестился перед трапезой или возводил взгляд к потолку, когда злился или надеялся на что-то. «Бог — это для идиотов, — говорила она нам. — Люди боятся смерти, вот и всё. Слушайте меня, девочки». Помню, как она сказала это, отведя нас в сторону, как-то раз, когда тетя Рут приехала и выругала нас за то, что мы ленивые, избалованные девчонки, — или что-то вроде того. Они с нашей матерью не очень-то ладили. «Бог — это выдумка, — говорила мать, — как Санта-Клаус. Никто не смотрит на вас, когда вы остаетесь одни. Только вам решать для себя, что правильно, а что неправильно. Нет никаких наград для хороших маленьких девочек. Если вы хотите что-то получить — сражайтесь за это. Не будьте дурами». Вряд ли она когда-либо была более заботливой, чем тогда, когда произносила эти ужасные слова: «К черту Бога. И к черту вашего отца».
Помню, как после этого я часами сидела на кровати, воображая лежащую передо мной вечность. В моем представлении Бог был беловолосым стариком в халате — чем-то похожим на то, каким впоследствии стал мой отец. Этот старик восседал над миром и делал на листах бумаги пометки красным карандашом. Потом мне представлялось мое жалкое смертное тело. Казалось невозможным, что Бога будет волновать то, что я сделаю со своей ничтожной жизнью; однако, думала я, возможно, я особенная и Он уготовил мне совершить добрые дела. Я проколола палец английской булавкой и стала сосать кровь. Я решила, что буду просто притворяться, будто верю в Бога, потому что это, похоже, ничуть не хуже настоящей веры, которой у меня не было. «Молись так, как будто веришь!» — кричал мой отец, когда наставала моя очередь читать благодарственную молитву после еды. Я зла на своего отца не столько за его идиотский морализм, сколько за то, как он относился ко мне. Он никогда не защищал меня. Он никогда не гордился мной. Он никогда не хвалил меня. Он просто не любил меня. Он любил джин и свою извращенную борьбу со «шпаной», с воображаемыми врагами, с призраками. «Дьявольское отродье», — шипел отец, размахивая револьвером.
Подъехав в то воскресенье к иксвиллской библиотеке, я припарковалась и протопала по снежной грязи ко входу, но высокая красная дверь была заперта. Это была маленькая библиотека, размещавшаяся в старом городском молитвенном доме, и единственная библиотекарша — миссис Бруэлл, я все еще помню ее имя — работала по своему личному расписанию. Я посещала библиотеку достаточно часто, чтобы распознавать все книги по одному только виду корешков и запомнить порядок их расположения на полках. В некоторых книгах я запоминала даже пятна на страницах — тут брызги соуса от спагетти, там раздавленный муравей, там размазанный жучок. Помню, в то утро в дуновении ветра я учуяла что-то обнадеживающее, похожее на дыхание весны, хотя был только конец декабря. Пить спиртное мне нравилось — в частности, потому, что в определенные моменты похмелья на следующий день я испытывала непривычный подъем духа и отвагу. Иногда к этому прилагался некий нерассуждающий восторг — маниакальное состояние, как это называется сейчас. К полудню эти приятные ощущения всегда перетекали в подавленность, но в то яркое воскресное утро я просунула книги в щель «ящика возврата», чтобы миссис Бруэлл впоследствии забрала их, а сама решила прокатиться в Бостон.
Если б я знала, что это будет мое последнее воскресенье в Иксвилле, я, наверное, провела бы его на чердаке, предусмотрительно пакуя чемодан или мрачно бродя по дому, который никогда больше не увижу. Я могла бы потратить это время на то, чтобы поплакать за кухонным столом, горюя о своих юных годах, пока мой отец был в церкви. Я могла бы пинать стены, обдирать полопавшуюся краску и обои, плевать на пол. Но я выехала на шоссе. Я не знала, что скоро исчезну отсюда.