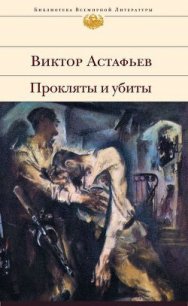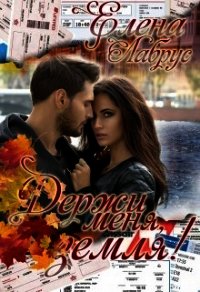Прокляты и убиты. Шедевр мировой литературы в одном томе - Астафьев Виктор Петрович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
«Пляце де армес, – ежится Нелька, напридумывали, засранцы, красивых слов, сюда бы вот вас, на это пляце де армес!…» – Не приплывет Фая на последней, на упочиненной, как обуток советского колхозника, посудине, возвращаться ей вместе с дохлым этим ее крестником в батальон Щуся – там раненых дополна. Утром немцы, – говорил капитан, – непременно высоту отбивать начнут, раненых прибудет, а они, раненые, ей до смерти надоели за три-то года – грязные, окровавленные, в гное, в говне, во вшах, в глаза по-собачьи преданно глядят, руки к ней, как к Богородице, тянут… – «Ах Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч… знал бы ты, сколько таких вот «пляце де армес» я уже перетерпела, сколько дорог прошла, какие муки человеческие, какую кровь повида-а-а-ала! Оскорблений, гадости, мерзости сколько вытерпела…»
Попала вот зимою под Сталинградом в госпиталь – мест, конечно, нет, для женщин и вовсе непредусмотрено, – их как-то не догадывались предусмотреть, видно, считали, что без баб на войне обойдутся. Сунули ее в коридор, за старинную этажерку с ширмой, на шелке которой нарисованы китайские мамзели с зонтиками, камыши и взлетающие птицы. Топот, гогот, срам за этажеркой. – «А-а, пэпэжэ! А-а, проблядь!… А-а, офицерская подстилка! А-а…»
Выскочила раненая, припадочно брызгая слюной, костылем публику лупцевать начала, всех подряд: «Я же вас, говнюков, я же вас спасала!…» – Зауважали ранбольные поврежденную бабу, да нет, не ее зауважали, костыль зауважали, курить приносили.
«Ах, Порфирь Данилыч, Порфирь Данилыч, все надоело-то как!…» Давно бы надо воспользоваться многими патриотками проверенным средством – забеременеть и на улицу Индустриальную податься. Матушка Авдотья Матвеевна, конечно, рогачом встретит, да она, Нелька, кое-что и пострашней рогача видела. Стерпит Нелька. Мать приветит, куда ж ей деваться-то? Да еще сестрицы дома, старшая, Зинка, замуж выскочила, и, слава Богу, вроде бы удачно. Младшая, Галка, все еще на музыкантшу обучается, подрабатывает уже. Надежда, лямку от Нельки перенявшая, тащит семейную баржу, как бурлак. Нелька тоже не без рук – опыт работы большой имеется, больница рядом, Порфирь Данилыч еще жив, в беде не оставит. Но куда же девать Фаю?»
Фая, Фая! Что за участь, что за доля у девки? Миленькая, тоненькая, лицом похожая на сестрицу Галку. На бледном том лице как-то по-особенному печалятся, никому неведомым горем светятся ее прекрасные глаза, от печали той сделавшиеся беззащитными, такими овечьими, что стон берет. Фая несла, скрывала от всех людей жуткую тайну: она была волосата, иначе, как Божьим наказанием, это не назовешь. Выросло на человеке все, чему на человеческом теле расти надобно, но сверх того покрыло человека еще и звериной шерстью. Будто вторую шкуру надел на Фаю Создатель. И так ли аккуратно это сделал Мастер Небесный: вверху – до шейки, нежной девичьей шейки, волосьями покрыл и до щиколоток зарастил тело внизу. Беспечные родители ее, артисты кордебалета областной оперетты, играли с девчушкой, называли ее «наша обезьянка». Фая и сама как-то несерьезно относилась к своему физическому непотребству, с детства научилась скрывать «свою шкуру», думала, на войне, в куче народа совсем скроется, потому и подалась прямо из школы на курсы медсестер, затем прямиком на фронт, под большим пламенем объятый древний город Смоленск.
На нее навалились вши. Они плодились, кишели в густой шерсти, съедали человека заживо, безнаказанно справляя кровавый пир. Тело ее покрывалось коростой, промежность постоянно кровоточила, она не могла ходить, но ходить, даже бегать, было необходимо – началось отступление от Смоленска, стремительно обращающееся в паническое бегство.
На каких-то, чуть укрепленных позициях Фая, почти уже сошедшая с ума от страданий и бессонницы, заползла в командирский блиндаж, упала на земляные нары, застланные чем-то мягким, и умерла в каменном сне. Очнулась Фая от страшной, раскаленным железом пронзившей ее боли. По-собачьи рычащий мужчина возился на ней. Она подумала, что это тот самый пожилой командир. который работал над картой в углу блиндажа, при свете коптилки, и на вопрос: «Можно мне?…» – кивнул головой: «Можно». «Да я же грязная, товарищ командир, не знаю вашего звания, – взмолилась Фая, у меня плохо там… потом, пожалуйста, потом…»
Мужчине с осатанелой плотью немного и надо было. Он свалился с нее, будто бы со стога сена, и захрапел. Подтянув женские пожитки, полные крови, вшей и грязи, Фая выползла из блиндажа на карачках, потащилась по проходу в траншею, припоминая заминированное поверху место. На нее наступил сапогом и растянулся спешивший куда-то ротный старшина Пискаренко. Лежа на ней сверху, щупал, спрашивал: «Хто цэ, хто?» Фая попросила у него наган. Он был опытный вояка, понял что к чему, оружия ей не дал, увел в темную землянку, выгнал оттуда весь народ, дал ей водки и, когда она отключилась, намазал ее из банки керосином.
Старшина Пискаренко, Хома Хомич, Царство ему Небесное, надолго сделался ее «шехвом». Неподходящее для окопов существо – женщина, и, пока это существо соберет всю вековечную мудрость и хитрость до кучи, приспособится жить в аду, ой, как настрадается.
Вместе с солдатами наелась чего-то Фая, недоваренной конины, что ли, может, и дохлой, – всю ближнюю армию пронесло, бегают кто куда бойцы свищут. Но куда же девушке деваться? Ее шехв – старшина Пискаренко, Хома Хомич, велел перегородить с одной и с другой стороны траншею плащ-палатками: «Хто будет подслухивать, реготать – собственной рукой, из собственного нагана…» – предупредил он. Лаская Фаю, поглаживая, называя; «кошечка ты моя лохматенькая», вздыхал Хома Хомич:
– Тоби надо, Хвая, с хронту тикать. Я ось тоби дытыну зроблю, и комысуйся на здоровьячко…
– Да как же я такая в больницу-то, Хома Хомич? Вдруг ребенок наш волосатенький получится?…
– Да, цэ трэба обмозговаты…
Но на мозги старшина Пискаренко не шибко был поворотлив, и, пока «обмозговывал», убило его.
Заменил старшину Пискаренко тоже старшина, грузин по национальности, из Сванетии, с диких гор. Ему было все равно, что женщина, что ишачка. Фая забеременела от горячего грузина. Неля, бывалая медсестра, боевая верная подруга, в окопных условиях сделала Фае аборт примитивным, зверским методом, которым пользовала себя и барачных баб Авдотья Матвеевна, передав свой навык дочерям: намылив живот, массировала его, проще говоря, постепенно и беспощадно выдавливала плод из женского чрева. Нелька узнала о Фаиной беде, о Божьем проклятии этом, и сделалась ей защитой и опорой, лютовала, обороняя подружку от мужиков, и кто-то из интеллектуально развитых грамотеев, понаблюдав уединяющихся, шепчущихся и что-то тайно делающих девушек, пустил слух:
– Живут, твари, друг с другом, по-иностранному это называется «лесбос».
– Да что же им, паскудам, нашего брата не хватает?! Кругом мужик голодный рыщет, зубами клацает!…
Терпи, девки, терпи, слушай, как поганец, какой-нибудь сопляк, бабу в натуральном виде не зревший, который, быть может, завтра будет хвататься за ноги, за юбку, крича: «Сестрица! Сестрица!…» – орет сейчас во всю нечищеную пасть: «На позицию – девушка, а с позиции – мать, на позицию – целочка, а с позиции – блядь…»
– 0-ой, Нелечка! Я думала, ты погибла! – спрыгнув в воду с еще не ткнувшейся в берег лодки, закричала Фая и с плачем бросилась к подруге. – 0-о-ой, Нелечка!… Мне говорили, лодка опрокинулась, все перетонули…
– Уймись! Уймись, говорю, – сипло воззвала Неля. – Спиртику. Дай спиртику иль водки мне и лейтенанту.
– Есть! Есть! Я прихватила! Я догадалась! – сбегала к лодке и, на ходу развинчивая пробку на зачехленной фляге, частила Фая: – 0-ой, Нелька! – снова припала к груди Фая. – Ой, моя ты хорошая, ой, моя ты миленькая! Живая! Живая! – и руками шарила по подружке, ощупывала ее. – Ох, да ты вся-вся сырая…
– Лейтенант грел, да грева от него, что от мураша. Мы с лейтенантом на гребях греться станем, ты на корму, четырех человек в лодку. И ни одного рыла больше! Накупались! Хватит! – властно скомандовала Нелька какому-то замурзанному чину с грязной повязкой на рукаве, распоряжавшемуся на берегу эвакуацией раненых.