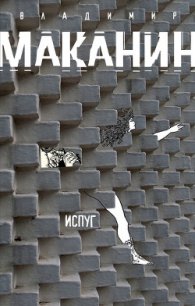Коса — пока роса - Маканин Владимир Семенович (книга жизни .TXT) 📗
Опытный, он поймал момент, когда ее активность стала более подлинной, дрожащей, неигровой. (У молоденьких зачастую игра.) Он все видел остро! Его глаз не провести. Ага... Порозовевшая и дрожащая... и если не Аня, то очень схожа... И сама же, первая (он мог бы клясться), она сейчас упивалась своей телесной новизной, пьянея от вернувшейся вдруг силы и молодости. Женщина!
— Мы едем в Москву? Да?.. Завтра — в театр?.. — спрашивала девичьим высоким голоском.
Слова ее сбивчивы, взахлеб:
— Завтра — в театр?... А на ночь к Галинке? К студенческой подруге!.. Да? Да?
Оба задыхались.
Аннета-Аня, как ее ни назови, сияла. Ее чувственная жизнь возникла (вернулась) из ничего, из сора, из небытия. Какая высокая минута бывает у женщин!.. Красавчик муж, уезжающий от нее в ночь... Или заботы по дому... Или ревность... Все-все чепуха. Все-все сор, пыль, лузга.
Она шептала:
— Пожалуйста... Еще... Еще совсем немного... Мне больно и... Хотя... Хотя и не нужно. Клянусь... Клянусь, мне... М-м...
Как и все, старый Алабин хорошо знал природу этих предпоследних слов. Ожидание, скрывающее самое себя.
— Аня...
Ей, если сейчас молода (и так наивна), ей и впрямь страшновато.
— Пожалуйста, — молила она.
Пот ударил — пот высох. Петр Петрович устал. И как удачно он оглянулся. Увидел светлую лунную ночь... В раме окна... Небо... и Аня! Обманка встряхнула его. Еще как!
Всю жизнь мужичонки думают о каком-то неслыханном поединке. О сильном, достойном враге... Разве нет?.. А в конце концов довольствуются одной-единственной случайной стычкой. Нечаянной стычкой на темной улице. (Да еще и спьяну...) Да, да, да... Люди такие. Готовые на подмену. На имитацию. На подделку... И он такой же. Согласен! Ему не нужна победа. Ему нужен миг.
Ага... В ее дыхании появился легкий сбой, где-то на третьем вдохе. Как обещающе!.. Нет, не хрипотца голоса, а несомненные пузырьки воздуха... Эти пузырьки порознь и не сразу слепляются во вдох. Неслепившиеся, они не насыщают легких... И вот-вот молодуха захочет подышать открытым ртом.
— Пожалуйста, — молила она.
— А? — Он был как оглохший.
Еще немного... Это обязательно...Что еще, кроме невнятной мольбы, она придумает. Что еще, кроме рваного дыхания, призовет себе в подмогу. А уж затем ее жар.
Алабину казалось — они оба в лунном свете стали крупнее. Ну, гиганты... Он был громаден, а она с ним еще громаднее. Лежали они ни на чем... Качались в небесах... На созвездиях — как на качелях?.. А белесый свет! Прямиком в глаза. Никогда в жизни ему так близко и так лунно не сияло.
— Луна, — проговорил он, задыхаясь от счастья.
Старуха кашлянула:
— Луна?..
— Да, да!
— Возьми-ка ее. Сунь ее мне под зад.
Алабин отпрянул, даже отдернулся от нее. Шутиха... Как это можно!
— Можно, можно... Угу-гу, — скрипел ее голос. — И не пыхти, старик, слишком. Не парься.
Петр Петрович очнулся. Весь в гневе... Иллюзия не то чтобы кончилась — исчезла разом. Никакой Ани... Он ясно и внятно (и опять как со стороны!) видел старика, склонившегося, искаженно нависшего над старухой. А та знай лепилась к нему, жмясь снизу к его телу.
Особо отталкивающего не было в этом, но... Но кособокая старуха... Сторожиха... Похоронщица. Оба полуодетые, они напоминали совокупляющихся сезонных рабочих. Старого замшелого прораба и безликую маляршу. (Где-нибудь на стройке... На высоком этаже строящегося дома.)
— Ага-ага!.. Угу-угу! — подбадривала его старуха. — Но только шибко не пыхти. Второй-то раз меня не разогреть. — И еще прошамкала: — Слышь... Не лезь из кожи.
Сердце его оскорблялось с каждым ее словом. И он вдруг сорвался. Ударить старик, конечно, не ударил. Кто ж дерется с женщиной... Зато рукой, жесткими пальцами он рьяно ухватил ее за ухо. Чтоб потаскать туда-сюда.
Михеевна испугалась.
— А что? А что?.. А что я такого про луну сказала?
— Значит, сказала.
— А что ж такого? Отпусти ухо!.. Оби-иделся! — громко возмущалась она. — Я ж думала, это в по-омощь...
— В какую помощь?
Старуха жалостливо (и одновременно глумливо) гундосила:
— Женщине в по-оомощь. А ка-аак же... А как иначе? Ежели трахаешь уже усталую.
— Я лучше знаю, как трахать усталых.
— Ну вот... Я так и подумала. Конечно, конечно! Такой ядреный мужчина разве не зна-аает... О-оопытный.
И вдруг хехекнула:
— Хе-хе... Женщине должно быть удо-ообно.
Он смолчал. Он бы уже выставил Аннету Михеевну вон, если б не скорая вдруг мысль. Если б не эта мгновенная мыслишка... Про обновление еще и еще — про фантастический возврат старой карги в юность.
А этот ее обратный обвал в старость... Возможно, возврат всегда у нее груб и слишком стремителен. Ему оскорбительно и больно. Зато цени миг, Петр Петрович... Зато каким крутым обломом вдруг видишь свою собственную жизнь — матерую и циничную старуху, глумящуюся над тобой же.
— Пить, — сказал он. — В глотке пересохло.
И чтобы еще раз не сорваться, Петр Петрович поднялся с постели и прошагал на кухню. Он еле сдерживался. Ему вслед бедовая старушка шутила:
— А выпей, выпей... У некоторых, я читала, и с воды встает.
Пил... Утолив жажду, вернулся не сразу. Минуту-две Петр Петрович постоял у окна... Ну, дрянь баба. Ну и ну... Луну! Луну под жопу. Еще чего! — старика прямо трясло от гнева. Он подпрыгивал на месте. Как такое можно?!
Небо (в ночном окне) продолжало сиять. В этом дивном лунном свете Петр Петрович простил ей ее житейскую грубость и старческое хамство. Простил, как если бы прощал сам себе. (Если она — его жизнь.) Ведь хозяйка... Может круто настоять... Женщине должно быть удобно.
Однако лежал он, все еще подчеркнуто отвернувшись к стене. И даже уткнувшись лицом в стенку... А Аннета Михеевна, сопереживая, сидела здесь же, на постели. С ним рядом... Сидела она теперь очень сдержанно, деликатно, — и несомненно слыша его обиду.
Вдруг она протягивала ладонь к спине старика, чтобы он тоже услышал ее сочувствие. Но тут же и отводила руку. Не сразу решаясь...
— Эй, — дружелюбно окликнула она.
Это правильно, когда ласку примирения начинает женщина. Когда начинает мужчина, спешка... бег с барьерами... одно, другое... третье... Когда начинает ласку женщина, секунды перестают стучать. И летящая мимо по воздуху тополиная пушинка вдруг зависает.
Но сначала Аннета Михеевна повинилась. Ну, согласна, согласна! Внешне (да и голосом тоже) она как женщина сильно сдала... Да, да, грубовата. Насмешлива... Так ведь сам сказал, ей уже тыща-другая лет, ха-ха-ха-ха! Тыща... Но в интиме (она именно так выразилась, изысканно)... Но в интиме с ней можно ладить. Ласковая.
— Слышь?.. А ведь я — ласковая.
Она наконец прикоснулась своей давно тянувшейся к нему рукой. Огладила раненое плечо. Да ведь и в этом жесте слышалась просьба ее простить. Прилегла рядом... Алабин (спиной) слышал льнущее к нему тело. Возможно, мирясь, она нервничала. Ее немножко трясло.
Но вот приникла тесней, и когда старый Алабин в общем-то был готов простить... Да, да, он уже было расслабился ее добротой, ее осторожной лаской... Когда он... Вдруг хлынул холод.
Стужей накатывало ему прямо в спину. Волной — от нее к нему. Вместо тепла.... Так и ускользнул миг. Его великий миг... Старуху трясло не жаром какой-никакой страсти, а холодом.
А-а, подумал старик. Там этот холод. И ничего больше. Там ничего другого для него уже не было.
Да ведь и можно понять: что ей, с ее тыщей лет, — что ей Алабин с его одной секундой?
Он сник. Вяло так лежал, жался к стене... Зато от стенки, как казалось, шло теперь к нему ощутимое тепло. (На контрасте.) Петр Петрович даже подумал, может, за стенкой кто живет. Кто-то подселился... Кто-то там теплый... Кто бы ты ни был, сосед. Кто бы ты ни был, — думал он... Бредил.
Михеевна негромко журила его.
— Говорила же: не парься. Хе-хе-хе... — вполголоса (скромно) она усмехнулась. — По-второму разу меня все равно не разогреть. Еще никому не удавалось... Из смертных.