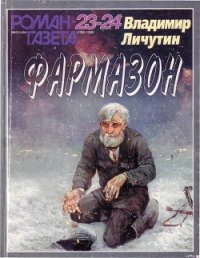Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
Господи, да как же ты подфартил мне, как же вовремя подставил ногу, что я, горячий и уросливый, брякнулся рылом оземь и вдруг очнулся от своеволия и гордыни и; «уковечившись» однажды, попустил душу свою для совести и жалости. Вот и слух обо мне по Руси великой, что душевед я. Да никакой не душевед, а маленький человеченко, раненный совестью... Если бы я стал писателем и впустил эту фразу в роман, то всякий умный книгочей сказал бы: «Ты, Хромушин, – графоман».
– Павлуша, ты чего вскочил? – Марьюшка сделала вид, что только заметила меня. – Поспал бы еще, коли душа просит. Иному-то страсть как хочется поспать, да глаз не может затворить... Он ведь у меня умственный, – похвалилась Марьюшка товарке.
– На том свете выспится. Не велик барин, – сурово отрезала Анна и, потянувшись над столом, узрела меня медвежеватыми глазками. Лицо в тяжелых дольных складках помягчело то ли от чая, то ли от простой бесхитростной беседы, когда вроде бы и зряшно убивается время, но и телом отдыхает старая, и жизнь вдруг наполняется смыслом.
– Там-то, чай, соседушка, и не дадут полежать. Там страсти. По краю-то ада бродить лет тыщу, а то и боле. Лететь не лететь в пропасть кромешную, припустит к себе Господь аль нет. Вот и гадай... Сколько грехов. И весов таких не сыщется. Вот где, Анна Батьковна, ужасти, кровь леденит... Нет, на земле не выспишься, а уж там не приведется, Господь не даст бока пролеживать. Спи, сыночек, пока спится. А там, дай Бог, и для тебя девчоночка востроглазая подрастет.
Марьюшка отщипнула уголок кулебяки, обсосала лещевую коварную косточку и долго по-младенчески смоктала крохотный жевок нагими деснами.
– Все, Стяпановна, все, – подытожила прямая на язык старуха. – Вот сейчас твоему Пашке подложи под бочок хотя бы и девку кровь с молоком, с коей сок течет, как из березы, да ведь не шевельнется у него это дело...
Я спрятался за самовар, сгорбился, как зайчишка в кусту, мой мятый образ в зеркале самовара замутился и расплылся, искривился, как небесный переменчивый облак: не различить, где кудель бороды, где младенчески невесомый пух волос, – такие лица можно встретить на старой росписи храмов. И только глаза проступают с дробинами зрачков, полные неведомого ужаса.
И, эх, старая, беззлобно укорил я соседку, с горечью понимая, что она права, это я сам укоротил свой путь на земле, окорнал родову, не дал ей зацвести и сронить новое семя. И для какой чести жил тогда? Лишь для домыслов, хитро изложенных на бумаге? А Марьюшке-то каково доживать останние деньки, понимая, что несураза породила и бестолочь.
Я смутился, опустил глаза. Меня пересуживали, сейчас начнут до скрипа перемывать косточки, и не проще ли, отбрив вредной старухе, де: «старый конь борозды не испортит», выйти на волю, окунуть босые плюсны в ласковый плюш топтун-травы, не исклеванной курами, и, освободившись от сонной сердечной мути, спровадив ее в сыру землю, возрадоваться запоздалому новому дню. Но ведь вредная старуха тут же отбреет, де, и «глубоко не вспашет», и тут придется ей отвечать, что у молодого уд долог, да ум короток, а она в пику тебе. Нет, братцы мои, надо помнить всегда, что у смолчавшего золотое слово в запасе.
Мать мерно докушивала кулебяку, чтобы не вспугнуть частенько тоскующую утробушку, схлебывала чай из блюдца: ела она как-то бережливо, неспешно, с мирным сердцем, и едва ли слышала громовые возгласы гостьи, слышные даже за окнами. Деловито ворошились крутые, будто медяные, скулы, и круглые тусклые глаза вроде бы были безучастны, но я знал, что за лобной костью, за этой потрескавшейся истончившейся кожей созревают жалостливые слова, кои и будут для меня утешны.
– И мой такой же, – сказала Анна, чтобы смягчить горечь прежних слов. – Положить на весы, никоторый не перевесит.
– А на кой и рожать при конце-то света? Грешников плодить? – Еще намедни мать говорила совсем другое. – По Писанью на заре нового века последняя сосна погибнет, и младени станут рожаться о двух и трех головах, как при начале времен.
– Да будет тебе пугать-то. Доброму народу не станет переводу. Я бы и сама еще, слышь? – Анна шаловливо подмигнула, в звероватых глазах появился странный азарт. Большие, как волнухи, уши с вислыми мочками, белесоватые повылезшие брови, по лицу будто трактор-колесник бороздил, а в душе-то августовские сполохи бушуют, пусть и без громов пугающих и ливней, но молоньи бесшумные по всему окоему – от края и до края, на всю вселенскую глыбь. – Грех-то, Стяпановна, как орех: раскусил да и зернышко в рот. Поначалу и горчит вроде, а после мед да сахар... Слышь, Паша, и чем я тебе не жена? Будешь по мне ползать, как лосиный клещ, а я тебя нашаривать. Мне то и надо...
Я молчал, чтобы не вторгаться в крохотное театральное действо, где третий – это лишь суфлер, что из своей ямки неслышно нашептывает текст пьески. Сейчас должна вступить в диалог Марьюшка. Тонявая, плоскогрудая, с воротничком, туго застегнутым под худенькой шейкой, она походила на монашенку в миру. Я увидел, как сжались ее сизоватые губы, сошлись в нитку, и понял, что мать обиделась вдруг, и оттого, что не смогла сдержать сердца, насуровила его, сильно встревожилась.
Ей, душевнице, так хотелось бы при конце жизни всех любить, никого не обижать, всем поддакивать, но вот не удавалось побороть норова, приструнить его. Мать сухо сказала, обижаясь за меня:
– Вот ведь жизнь как заплелась. И не расплесть умом. Старые повредились головою, а что с молодых взять? Все растряслось туды-сюды, все побежали по сторонам, как тараканы. Все нараскосяк, ворота полы, сами по себе решили жить, и в груд не собрать. Доброго бы пастуха нать...
– Или ты, Стяпановна, старуха? – басила Анна. – Хошь, я тебе Левонтьича засватаю? Ему восемьдесят, а он как жеребец стоялый у станка. Старуха-то егова уж пятый год лежит, под себя ходит. Он по бабе-то шибко соскучился. А тебя бы прибасить, так еще как куколка. Там притачать, там притянуть, свеклой рожу намазать, брови – угольем, волосы – сажей. Будешь невеста...
– Да ну тебя, Анна, – махнула рукой моя Марьюшка. Не понимая шуток, она вдруг застеснялась и пуще прежнего насуровилась.
Я тихонечко прыснул в кулак и вдруг обрадовался неистребимости человечьей натуры. И чего хоронить допрежь времен? Невея сама подберет в свой черед. А пока бродит старая от печи до порога, уголек-то на сердце тлеет-тлеет да вдруг как пышкнет и выдует из сердцевины огонька. «Бедные вы мои женочонки, – пожалел я старух. – И как по вам круто прошлась жизнь, через какие терки и сита пропустила, какого лиха нагрузила торбу – тащите, бедные, хоть волоком, хоть катом. А золотинку-то в груди не задуешь никакой пургой».
– Чего рукой-то машешь? – уже на полном вроде бы серьезе подхватилась Анна, загремела на всю избу. – Сын-от пропащий, дак себя хоть не губи. Тебе сколько лет?
– По пачпорту дак – восемьдесят или поболе того. А годов столько, сколько здоровья. И вовсе не надо знать, сколько лет. И думать не надо. Родился когда-то, рос и вот умер. Так на што годы знать? Для потехи все, – рассудила Марьюшка, нервно подхватила в волосах коричневый гребень, причесала и без того гладкую голову, причепурилась, подобралась тельцем и, словно бы опомнилась, сунула под краник чашку и нацедила чаю. – Ты кушай, Анна, не стесняйся. Столько пирогов настряпала, а мой-то худорылый не ест ничего. Также скотине срою в помои.
– А как со здоровьем? – не отступалась Анна, взявшись сватать вдовицу за Левонтьича, у которого в кровати лежит пусть и параличная, но еще живая жена.
– А ничего со здоровьем, слава богу. Вот гриб не прошел, осадок сделал, наверное.
– Так лежать надо...
– Лежать-то хуже. Надо ходить. Чего надо, в нутре само выболит. Чего теперь лечиться? Теперь умирать надо. Я решила так: заболею крепко, увезут в больницу. Им план надо выполнять. Будут таблетки давать, а я в шкапик положу, пить не стану. Стары люди мешают. Такой закон жизни. Пока ходят, они не должны мешать. – Марьюшка говорила тихонько, как бы из самого нутра выковыривая редкие слова, полные смысла. Вот сидят подле две бабени, одна старее другой, обе крестьянских кровей, но по своей-то сути скроены из разных стихий: одна – огонь, полымя, молонья, сама гроза; другая – вода, вешний подснежный ручей, вроде бы с трудом пробулькивающии встречь реке сквозь насты, сугробы, лесные крепи. Но ведь не давят друг друга, не покоряют, не пригнетают долу, но приплетаются друг к дружке в неразрывный узел.