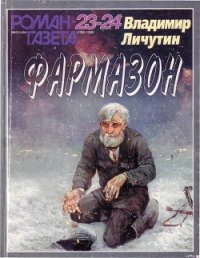Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (полная версия книги txt) 📗
В те дни Грунюшка жила одна, и как ни выпроваживали ее соседи к врачу, она наотрез отказывалась. Потом грудь загноилась, в рану попала грязь. Гаврош за бутылку самопальной водки отвез болезную на лошади в участковую больницу. Обратно вернуть участливых не находилось. Было, правда, одно попутье, но парень запросил бутылку. «А где я ее возьму, сынок?» – «Ну и лежи, старая. Некуда теперь спешить».
Я же случайно оказался в Тюрвищах в участковой больнице. Привез на «Запорожце» больную из Жабок. И мне мужик в больничном халате, из-под которого выглядывали тесемки кальсон, говорит: «Тут бабка из вашей деревни. Уже неделю домой оттартать некому».
Грунюшка появилась на крыльце с узелком. Остановилась на верхней ступеньке, вглядываясь и не признавая меня. Вся приувядшая, встрепанная, чулки обвисли на лодыжки, на тусклые калоши. Никому теперь не нужная, отдавшая жизнь колхозу и детям...
«Ой, Пашенька, сыночек, да как ты появился тута? Не иначе Господь тебя ко мне прислал».
Трясущейся рукою, опираясь на мое плечо, едва спустилась с крыльца, с трудом уселась в тесную машинешку, словно бы втискивая себя по частям: тулово, ноги, непослушную голову, руки с еловым, отглаженным ладонью дрючком...
Столько благодарных слов я, пожалуй, больше в жизни своей не слыхивал и навряд ли услышу.
Что Нюхча моя родная, что Жабки рязанские словно бы на одну колодку сшиты с той лишь надеждой, чтобы только ночь пережить да день перекантовать.
Возникшая как однодворица, Нюхча, считай, уже триста лет стоит и все не помирает, правда, ссыхается, как шагреневая кожа. Жабки – те помоложе. Была деревня Жабино, от нее сбежали на выселки две семьи лет сто пятьдесят тому назад, и от них пошел хутор Жабки. Затаились изобки в травянистой кочкастой пойме, как пятнистые жабы, готовые зарыться на зиму в землю.
И в домах-то не скоплено богатства: по крохам наживалось лишь то, без чего не обойтись при нужде. Отсюда – беззавистное житье, умение обходиться малым, успокаивая себя тем, что-де с собою на тот свет не унесешь. Русский крестьянин недалек от того бывалого солдата, что мог щи из топора сварить. И какое огромное время истлело при таком немудрящем житье, сколько потомства ушло за порог в бескрайние пространства. Во всем видна бедность, но та скудость, в которой все учтено до мелочи, чтобы можно было перемочь крайнюю тягость, хотя брюхо и прирастет к хребтинке, но душа-то останется вживе.
Так я привычно размышлял у соседки, наверное, в тысячный раз машинально разглядывая убранство кухни. Старые мебелишки хрущевской поры, в углу стол с лавкой, печь в пол-избы, у двери на крюках висят фуфайки и рабочий сряд Гавроша, в шолнуше за занавеской, кряхтя, обряжается Анна Тихоновна, давит в ведре вареные картохи, хлебенные корки, режет капустный лист и крапиву. Мне виден лишь оттопыренный зад, обтянутый посконной юбкой. Пора скотину доить, поросенок визжит в куту, – есть подавай, куры сбились табунком у дверей, ждут кормилицу, скоро и пыльные барьки притащатся с тощего выпаса, потупив к земле кучерявые упрямые головы. Семьдесят старухе, преклонные года, пора бы и на лавочке посидеть, как в городах, посудачить, полузгать жареных семечек, накопить жирка на пузце на всякий трудный случай. О валяную калишку, выгибая спину, ластится пестрая кошечка, с холодильника свесил вниз безухую изодранную голову старый котяра, похожий на изношенный хозяйский валенок. Почти такой же валенок выглядывает с печи. Кошечка почуяла близкое парное молоко, а котофей – тот ждет мясных щей: когда хозяйка открывала заслон и сымала с горшка чугунную сковороду, чтобы посмотреть, каково уварилось, то из чугуника выпорхнул такой вкусный сладкий парок, что Васька совсем сомлел. «Он, как солдат, ему крутяку подавай, чтобы ложка стояла», – любит ласково приговаривать Анна, наливая щец в черепушку. Сыскалась бы и для собаки костомаха, но Байкал весною умер от старости. Гаврош дохаживал пса в благодарность за охотничьи труды.
Пес последние дни все искал холодка, ничего не ел, и вот на первое мая протянул ноги. Гаврош заплакал и с братом, прибывшим в деревню на праздники, погрузил друга своего верного на двухколесную телегу и оттащил на поляну близ Глухого озера, где прежде всегда отдыхали, возвращаясь с охоты. Меж кореньев старинной березы выкопали ямку, завернули пса в покрывало и закопали. Вернулись домой, пили горькую прямо из горлышка, поминали, Артем плакал навзрыд. Мать после того не раз укалывала сына: «Ты по отцу слезинки не выронил, по мне не заплачешь, а по собаке уревелся». – «Она лучше вас», – ответил тогда Артем, еще отпил из стопарика и, положив на грудь кошечку, уснул в слезах...
Я пошел спасать Артема, и надо было узнать подробности. А куражный мужик, вольно распластавшись на печи, досыпал то, что не взял за ночь. Старуха смекнула, в чем дело, ушла в горенку, долго копалась там, памятуя, что подальше положишь – поближе возьмешь, и, судя по слабому стекольному звяку, заховала она не одну посудинку, и где-то возле хранится и часть похоронного запаса.
Завернув в фартук, прижимая бутылек к широкому животу, Анна прислонилась ко мне и тихохонько перекатила склянку в мои готовно подставленные ладони, не забывая заслонить свою затею пригорбленной спиною. Но Гаврош, этот лиходей синепупый, тут же зашевелился на печи и, как по команде, отпахнул занавеску, свесил вниз лохматую голову, прислеповато всматриваясь, кого же это принесла в дом нелегкая.
– Слышу песнь веселья и сладости жизни. Бабка, помоги умирающему. Трубы горят.
– Я тебя опохмелю метлою по губам. И питье будет, и закуска.
– Пашка, скажу тебе прямо. Живи один, больше не женись. Бабы – они все скотины... Ты посмотри на нее, сын на глазах помирает, а она ни ухом ни рылом.
– Где я тебе возьму, непутня? Пензия на один хлеб да тебе на курево. Две пачки в день просадит.
– Для живого сына ей стакана жалко, а на мертвого ящик купит... Паша, любишь ты свежачка, роешься в девках, как в щепе. Да все равно нажгут они тебя, насадят глаз на ж... И не охнешь. Если надумаешь, дурачок, забраковаться снова, зови немедленно меня. Я прилечу. У меня все схвачено... Бабка, помажи на язык, по-ми-ра-ю...
Артем закатил глаза, захрипел, рука бессильно опала с лежанки, и, кажется, даже ногти посинели. Но бабку за пятак не купишь.
– Гали, сухорылый, гали больше. Меня, старую, не проведешь. Пьет, но не ест. Сколькой день не ест. Один нос остался. Эх ты, злыдня косорылая.
И, не обращая внимания на сына, Анна ушла с пойлом в хлев, а через полчаса вернулась с ведром молока, принакрытым марлею. Нацедила фаянсовую кружку, молоко вспузырилось, взялось душистой шапкою.
– Попей, Пашенька, пока парное. Все думаешь, Павлуша, и нисколько голову не бережешь. А ведь не казенная. Моему бы кто голову поставил. Эту бы отрезать к чертовой матери, а пришить новую. Сейчас ребятишек всаживают в чужое брюхо: носи и рожай. И почто бы ума глупому не всадить? У одного лишнее отрезал, другому бы вшил.
– Дура!.. – остервенело закричал с печи Артем, понимая, что мать не переломить и, значит, ничего не отколется. А голова бо-ли-ит... Надобно слезать с печи и скидываться в деревню да ловить слабого на хмельное мужичка, что при деньгах, но без женского надзора. – Дура, ты не понимаешь, чего мелешь! Это ведь голова, не ж... Это у вас, у баб, все перепутано, все не как у людей. В могилевскую пора, а вы все воздух портите.
– Это ты, негодящий, зря живешь. Ни щетинки, ни шерстинки.
– Да я накую, сколько хошь. Если хочешь знать, у меня в каждой деревне. Да...
Мать внимательно взглянула на сына, не поверив, покачала головою:
– Ага. Накуешь от козы-дерезы... Вот Ванька Горбач, покойничек, был коваль. Они с Грунюшкой поженились перед самой войною, он успел ее с животом оставить. Вернулся домой косоруким и еще шестерых настрогал. Да Грунюшка через год по два раза на аборты бегала. До последних дней, пока Ванька жив был, жалилась на него. Говорит, мой-от за ночь раз шесть меня сшевельнет. Дай, говорит. Я ему: отстань, идол, дай поспать, мне скоро скотину обряжать, А он пристанет: дай и дай. И выстонет ведь. А сам косорукий, и в хребтину словно лом вставлен... Вот, Пашенька, какие мужики были. А нынче ни вымени, ни племени; ни пехать, ни пахать. Вот и скудеет земля народом, – вздохнула Анна. – Да и Москва, проклятущая, все соки из нас выпила. Кто остался в деревне, тот уж никуда не гожий. Хоть ты, Павлуша, посмотри на моего: бросовый товар.