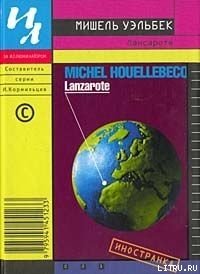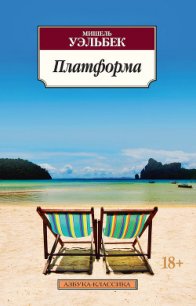Расширение пространства борьбы - Уэльбек Мишель (книги онлайн бесплатно серия txt) 📗
Я вдруг подумал, что должен объяснить, зачем приехал сюда, и рассказал ему целую историю: я будто бы собираюсь купить себе апартаменты в пансионате «Флибустьер». Он сразу оживился, долго взвешивал все «за» и «против», размахивая зажатой в руке вафлей, а под конец сказал, что, на его взгляд, это будет «выгодное капиталовложение». А что еще я мог от него услышать?
Глава 10
«Гавань»
«Вот-вот, у нас есть свои ценности!.»
Вернувшись в Ларош-сюр-Ион, я купил в супермаркете нож для бифштексов; у меня наметился один план.
Воскресенье прошло незаметно. Понедельник выдался на редкость тоскливым. Я ни о чем не спрашивал Тиссерана: и так было ясно, что выходные он провел отвратительно. Это ничуть меня не удивило. На календаре было 22 декабря.
Во вторник вечером мы с ним пошли в пиццерию. Официант с виду и вправду походил на итальянца; наверняка у него была волосатая грудь и море обаяния; меня от него тошнило. А в том, как он поставил перед нами на стол наши спагетти, чувствовалась какая-то торопливая, рассеянная небрежность. Вот если бы на нас были длинные юбки с разрезом – о, тогда другое дело!…
Тиссеран пил вино, бокал за бокалом; а я рассуждал о течениях в современной танцевальной музыке. Он не отвечал; по-моему, он меня не слышал. И все же, когда я заговорил о том, как в прежние времена танцевали то под ураганный рок, то под медленный, томный блюз, что придавало особую остроту ритуалу обольщения, он встрепенулся (неужели ему доводилось танцевать под блюзовую мелодию? Маловероятно). Я перешел в наступление.
– Наверно, ты уже решил, как будешь праздновать Рождество. Вы соберетесь всей семьей…
– Мы не празднуем Рождество. Я еврей, – сообщил он даже с некоторой гордостью. – В смысле, родители у меня евреи, – сдержанно уточнил он.
Это меня озадачило. Секунду-другую я раздумывал. Но в конце концов, если он еврей, разве это что-то меняет? На мой взгляд, ничего. И я продолжал:
– А что, если закатиться куда-нибудь в сочельник? Я знаю один ночной клуб в Сабль-д'Олонн, называется «Гавань». Там отлично…
Мне показалось, что слова мои звучат фальшиво, и мне стало стыдно. Но Тиссерану уже было не до тонкостей. «Думаешь, там будет много народу? По-моему, сочельник все празднуют в кругу семьи…» – вот так, трогательно наивно, он мне ответил. Я признал, что в канун Нового года шансов, безусловно, гораздо больше. «Девушки любят спать под Новый год», – непререкаемо заявил я. Но и канун Рождества – стоящее дело: «Девушки едят устрицы с папой-мамой и с бабушкой, распаковывают подарки, а после полуночи идут развлекаться». Я увлекся и уже сам начинал верить в то, что рассказывал. Как я и предполагал, уговорить Тиссерана оказалось нетрудно.
На следующий вечер он провел за приготовлениями три часа. Я ждал его в холле гостиницы, играя сам с собой в домино. Это оказалось скучнейшим занятием; а у меня все же было неспокойно на душе.
И вот он появился, в черном костюме и золотистом галстуке. Наверно, немало потрудился над прической; теперь выпускают гели для укладки волос, которые прямо творят чудеса. В черном костюме он еще как-то смотрелся. Бедняга.
Нам надо было убить час времени; нечего и думать о том, чтобы явиться в ночной клуб раньше половины двенадцатого, – тут я был непреклонен. Посовещавшись, мы решили заглянуть в церковь, где уже началась полуночная месса. Священник говорил о великой надежде, которая забрезжила в сердцах людских; против этого мне нечего было возразить. Тиссерану было скучно, он думал о другом; а меня вся эта затея уже раздражала, но отступать было нельзя. Нож я положил в пластиковый пакет и спрятал в бардачке.
Найти «Гавань» удалось довольно быстро; надо сказать, я уже бывал там и проводил время очень скверно. С тех пор прошло больше десяти лет; но неприятные воспоминания изглаживаются не так скоро, как хотелось бы.
Зал был полон наполовину. В основном там веселился молодняк, от пятнадцати до двадцати лет, что резко уменьшало и без того скромные шансы Тиссерана. Много мини-юбок, топиков с глубоким вырезом; в общем, много свежего мяса. Я видел, как он выпучил глаза, оглядывая танцпол. Я отошел, чтобы заказать нам по бурбону, а когда вернулся, он уже топтался у края звездной туманности, которую образовала подвижная масса танцующих. Я невнятно пробормотал: «Сейчас приду…» – и направился к столику, стоявшему на возвышении: отсюда я мог наблюдать за театром военных действий.
Вначале Тиссеран вроде бы заинтересовался одной брюнеткой лет двадцати, скорее всего, секретаршей. Я склонен был одобрить его выбор. С одной стороны, девушка была не так уж красива и вряд ли пользовалась особым успехом; ее груди, правда довольно большие, уже оттягивались книзу, а ягодицы были дряблые; через несколько лет всё это окончательно обвиснет. С другой стороны, одета она была вызывающе, что недвусмысленно указывало на ее желание найти сексуального партнера: легкое платье из тафты при каждом движении взлетало кверху, открывая пояс с подвязками и крошечные трусики из черных кружев, оставлявшие ягодицы совершенно голыми. Наконец, ее лицо – серьезное, даже несколько упрямое, говорило о том, что она – человек осмотрительный: у такой девушки наверняка есть в сумочке презерватив.
Несколько минут Тиссеран танцевал недалеко от нее, энергично вскидывая руки, чтобы показать, как его зажигает музыка. Разок-другой он даже хлопнул в ладоши; но девушка его словно не замечала. Улучив момент, когда музыка ненадолго смолкла, он решился заговорить с ней. Она обернулась, смерила его презрительным взглядом и перешла в другой конец зала, подальше от него. Безнадежное дело.
События развивались согласно плану. Я пошел заказывать еще по одной порции бурбона.
Вернувшись, я почувствовал: что-то изменилось. За соседним столиком сидела девушка. Одна. Она была гораздо моложе Вероники, наверно лет семнадцати, не больше; но меня поразило, насколько они похожи. Ее простенькое, свободное бежевое платье не обрисовывало формы; но в этом и не было необходимости. Широкие бедра, гладкие, крепкие ягодицы; округлые, налитые, нежные груди так и просятся в руки, а потом хочешь коснуться талии, ощутить благородную выпуклость бедер. Как это было мне знакомо; я закрывал глаза – и вспоминал всё. Даже лицо было такое же: цветущее, ясное, оно излучало спокойное очарование истинной женщины, уверенной в своей красоте. Безмятежное спокойствие молодой кобылицы, жизнерадостной, готовой разогреться в быстром галопе. Безмятежное спокойствие Евы, созерцающей свою наготу, знающей, что она непреложно, вековечно желанна. Нет, за два года разлуки я ничего не забыл. Я залпом выпил бурбон. И в эту минуту вернулся слегка вспотевший Тиссеран. Он о чем-то спросил меня: кажется, хотел узнать, нет ли у меня видов на эту девушку. Я не ответил; я чувствовал, что меня вот-вот вырвет, у меня стояло; в общем, мне было совсем скверно. «Извини, я сейчас…» – и направился в туалет. Закрывшись в кабинке, я засунул два пальца в рот, но рвота была до обидного скудной. Потом я стал мастурбировать, это у меня получилось лучше: сначала я, конечно, подумал о Веронике, но затем представил себе просто влагалище, и дело пошло. Семяизвержение случилось через две минуты; и я обрел твердость и уверенность.
Я вернулся в зал и увидел, что Тиссеран завел разговор с лже-Вероникой; она смотрела на него спокойно и без отвращения. Эта девушка было просто чудо, на ее счет можно было не сомневаться; но мне было все равно, я уже разрядился. В том, что касалось любви, Вероника, как и все мы, принадлежала к загубленному поколению. Когда-то прежде она, несомненно, способна была любить. И, надо отдать ей справедливость, хотела бы обладать этой способностью и сейчас, но это было уже невозможно. Любовь, как редкое, позднее тепличное растение, может расцвести лишь в особом душевном климате, который трудно создать и который совершенно несовместим со свободой нравов, характерной для нашей эпохи. В жизни Вероники было слишком много дискотек, слишком много любовников; такой образ жизни истощает человеческое существо, причиняет значительный и невосполнимый вред. Любовь, то есть невинность, способность поддаваться иллюзии, готовность сосредоточить стремление к особям противоположного пола на одном, любимом, человеке, редко сохраняется в душе после года сексуальной распущенности, а после двух – никогда. Когда в юном возрасте сексуальные связи сменяют одна другую, человеку становятся недоступны сентиментальные, романтические отношения, и очень скоро он изнашивается, как старая тряпка, напрочь теряя способность любить. А дальше живет, как и положено старой тряпке: время идет, красота блекнет, в душе накапливается горечь. Начинаешь завидовать молодым, ненавидеть их. Эта ненависть, в которой никто не отваживается признаться, становится все лютее, а потом слабеет и гаснет, как гаснет всё. И остаются только горечь и отвращение, болезнь и ожидание смерти.