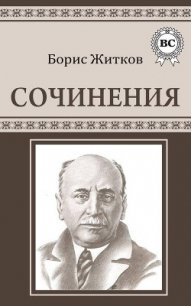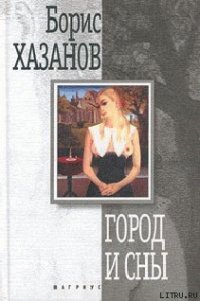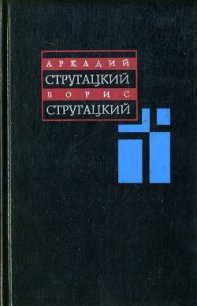Портрет незнакомца. Сочинения - Вахтин Борис Борисович (лучшие книги онлайн .txt) 📗
Мне кажется, что моей рукой водит русская литература.
В детстве первой моей серьезной книгой было «Детство Багрова-внука» Аксакова. И его манера речи, неторопливый наглядный рассказ вселил в меня то особенное восприятие человека, людей и природы, которое требовало объяснения в словах, оставаясь без этих слов мучительным и непонятным.
С тех пор литература — прежде всего, конечно, русская — стала для меня на всю жизнь необходимым собеседником, с которым я обсуждаю то, что меня мучит.
Очень скоро я увидел, что моя любимая русская литература, этот мой собеседник и учитель, не знает никакого душевного мира и отличается, среди прочего, тем, что неугомонно, с горящими глазами, на разные голоса пророчествует.
Не нужна никакая особая наблюдательность, чтобы это увидеть. И русская литература сама об этом заявила устами не кого-нибудь, а Николая Васильевича Гоголя:
«Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует одна только Россия?»
Среди разнообразных, порой темных и неясных пророчеств русской литературы (а шире — и всей культуры) звучала одна мощная и загадочная нота: предсказывалась некая полная гибель всего и вся, а рядом с этим видением гибели почему-то возникал ослепительный свет, мерещился «золотой век», бессмертье…
Первый и здесь у нас, как во всем, — Пушкин. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» Это, конечно, не в третьем лице написано, какое там у Пушкина третье лицо! В наипервейшем это лице, звончайшее тут я, а не Исайя — хотя и Исайя в этом я вполне умещается. И в рыцаре бедном — тоже пушкинское (всея Руси) Я. Впрочем, и до Пушкина, задолго до него уже звучали у нас пророческие мотивы — не зря же Якова Беме издавали, «Утреннюю звезду в восхождении», не зря к колдунам ухо склоняли, не зря протопопу-пророку внимали.
Мощная эта нота заслуживала бы целой книги, но сейчас я ограничусь только небольшим, беглым и с пропусками конспектом такой книги, уместным здесь и даже необходимым — речь ведь в целом идет о русском национальном опыте… Так что и я невольно предаюсь тому же нашему древнему занятию — пророчеству, — стало быть, надо вспомнить общую работу, спеть, так сказать, в хоре и дальше уже петь соло.
Итак, о чем же пророчествовала русская литература?
В России не было философии, которая исследовала бы познавательные способности человеческого разума, отношение сознания к предмету познания. Наша философия пошла особым путем, не подвергая исследованию человеческую способность познать предмет, а сосредоточившись на единстве четырех понятий: человек — люди — природа — Бог. Естественно, что, обратясь к такому предмету размышлений, философия наша растворилась — прежде всего в художественной литературе, а затем в критике, в богословских трактатах, в исторических и натурфилософских сочинениях, растворилась надолго, вплоть до конца XIX — начала XX столетий, то есть до великого подъема во всех сферах науки и духовной культуры в России, предшествовавшего революции и прекращенного ею, но до сих пор отзывающегося эхом в нашей жизни.
Возьмем, например, не одного из писателей-гигантов, у всех высящихся перед глазами, не Достоевского, скажем, или Толстого, а скромнейшего из скромных наших авторов, стоящего где-то поближе не то к левому флангу отечественной литературы, если выстроить писателей во фронт и по ранжиру, не то к арьергарду, если двинуть ее в поход по тому же ранжиру. И возьму одно только сочинение этого автора, причем сочинение по жанру не очень-то и понятное, которое сам автор именует то статьей, то заметками, то общим очерком, а именно сочинение Глеба Успенского «Власть земли» (1882), и кратко его разберу, чтобы пояснить, где, на мой взгляд, приходится искать русскую философию и чем эта философия интересуется.
Вот диалог автора с Иваном Босых, героем его сочинения:
«— Скажи, пожалуйста, Иван, отчего ты пьянствуешь? — спрашиваю я Ивана в одну из тех ясных и светлых минут, когда он приходит в себя, раскаивается в своих безобразиях и сам раздумывает о своей горькой доле.
Иван вздыхает глубоким вздохом и с сокрушением произносит почти шепотом:
— Так избаловался, так избаловался… и не знаю даже, что и думать… И лучше не говорить! Одумаешься, станешь думать — не глядел бы на свет, перед Богом вам говорю!
— Да отчего же это, скажи, пожалуйста?
— Отчего? Да все оттого, что… воля! Вот отчего… своевольство!»
И Иван Босых ставит сам себе диагноз:
«…Все от воли!.. Все от непривычки, от легкой жизни…»
Успенский заключает:
«Таким образом оказывается, что „воля, свобода, легкое житье, обилие денег“, то есть все то, что необходимо человеку для того, чтоб устроиться, причиняет ему, напротив, крайнее расстройство до того, что он делается „вроде последней свиньи“».
Успенский не может принять этого объяснения, и Иван силится пояснить толковее:
«Потому что <…> природа наша мужицкая не та… Природа-то у нас, сударь, трудовая…» И Иван рассказывает, как служил на железной дороге, распустился там, был изгнан и с радостью вернулся в родную деревню, где с упоением стал поправлять запущенное хозяйство. Вот его главное воспоминание о городе и о железной дороге:
«А там и работы не было, и всякое удовольствие, и деньги, а точно безумный сделался, всю душу-то по грязи истаскал, как свинья свое брюхо… А отчего? — Все воля!»
Успенский комментирует:
«Этим непонятным сопоставлением слов: „воля“ и „нравственное падение“ Иван начинал и оканчивал свои беседы со мною… И что удивительно, мотовство, расстройство начинается именно от более легкого, чем крестьянство, заработка…»
Постепенно, от жизненных наблюдений, идет автор к своим коренным мыслям. Вот Успенский прочел об успехах коллективного хозяйства, об общественной запашке и подробно, убежденно рассказал об этом Ивану. Тот слушал с интересом, но потом возразил, что «хороший хозяин не доверит своей лошади чужому», и поинтересовался, как будет с удобрениями, — и тут выясняется, что между разными видами естественных удобрений существуют глубокие различия, и оказывается, что из общественной запашки, из коллективного хозяйства путного ничего получиться не может:
«Миллионы самых тончайших хозяйственных ничтожностей, ни для кого, как мне казалось, — пишет Успенский, — не имевших решительно ни малейшего значения, не оставлявших, как мне казалось, даже возможности допустить к себе какое-либо внимание, вдруг выросли неодолимою преградой на пути ко всеобщему благополучию…»
Автор спрашивает:
«В чем же тут тайна?»
И отвечает так:
«А тайна эта поистине огромная и, думаю я, заключается в том, что огромнейшая масса русского народа до тех пор и терпелива и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, мужественно-сильна и детски-кротка — словом, народ, который держит на своих плечах всех и вся, — народ, который мы любим, к которому идем за исцелением душевных мук, — до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, покуда над ним царит власть земли, покуда в самом корне его существования лежит невозможность ослушания ее повелений, покуда они властвуют над его умом, совестью, покуда они наполняют все его существование. …Оторвите крестьянина от земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, — добейтесь, чтоб он забыл „крестьянство“, — и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него. Остается один пустой аппарат пустого человеческого организма. Настает душевная пустота, „полная воля“, то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное „иди, куда хошь…“
…Земля, о неограниченной, могущественной власти которой над народом идет речь, есть не какая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, иносказательная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли с улицы на своих калошах в виде грязи, — та самая, которая лежит в горшках ваших цветов, черная, сырая, — словом, земля самая обыкновенная, натуральная земля».